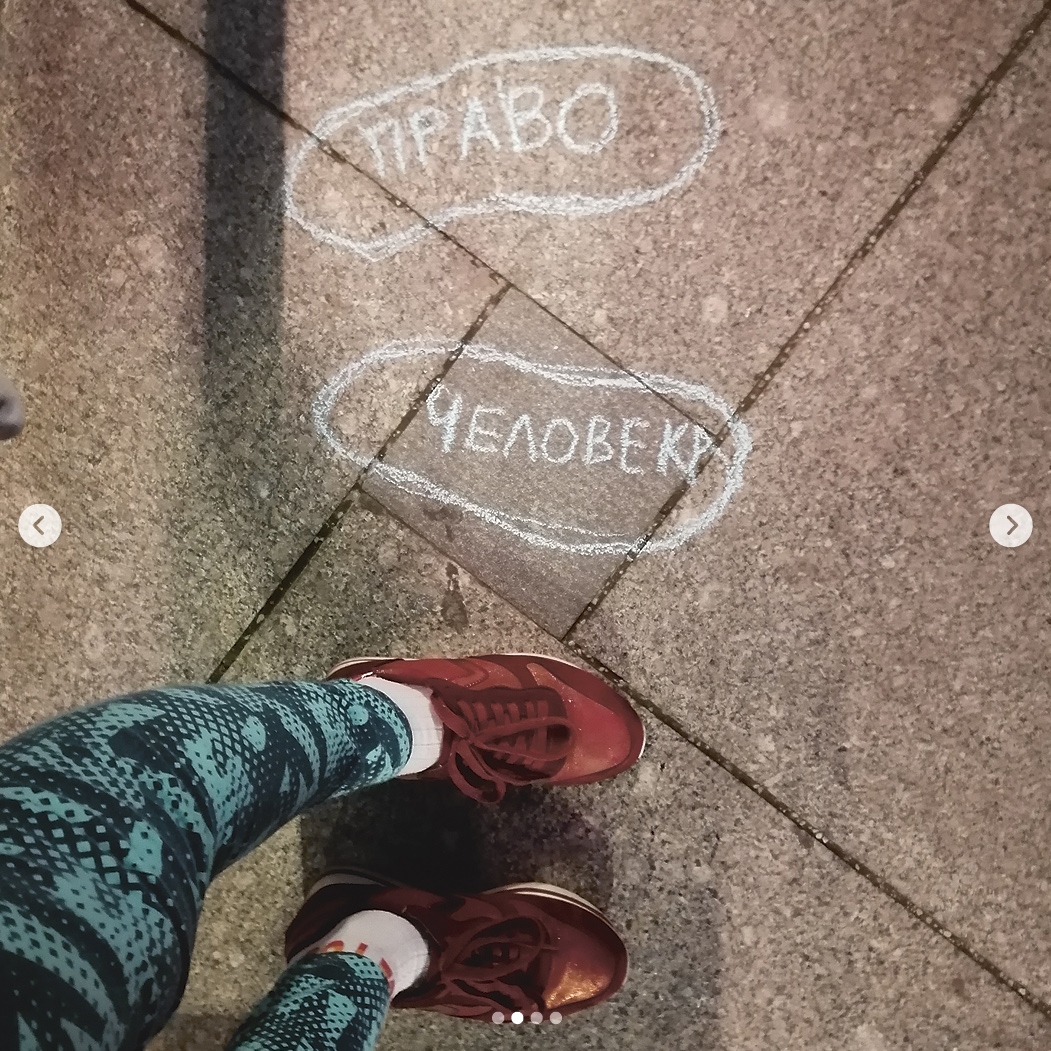Ася Володина: «В ролевом сообществе уровень рефлексии очень высок»
Ася Володина пришла на территорию искусства из ролевого сообщества, но теперь выступает в качестве художника. Одну из своих игр она поставила вместе с Арсением Жиляевым для престижного нью-йоркского Бард-колледжа. Посмотрев на игры с двух точек зрения, она поняла, что гейм-дизайнеры создают магический круг — рисуют границу между миром придуманным и реальным, им интересно посмотреть, что будет с человеком, если его переместить в воображаемое пространство. Художники же, наоборот, приходят в мир игр, чтобы эту границу стереть

В ролевом комьюнити вопрос, искусство ли мы, обсуждается очень часто. И любимый на него ответ: да, мы искусство, ролевые игры себя им ощущают. Моя личная встреча этих двух миров произошла, когда я познакомилась с Арсением Жиляевым. На встречу с ним пришло несколько человек, которые пишут игры, мы вдохновенно рассказали, чем занимаемся, и спросили, искусство ли это с его точки зрения. А он ответил: нет, поскольку вы не институционализированы. Я тогда была сильно возмущена и не сразу поняла, что он имел в виду: разве искусство — это не то, что ты делаешь, а то, как тебя воспринимают? Потом поняла, что разговор шёл о том, в каком контексте ты взаимодействуешь со своей аудиторией. И поэтому да, можно разграничить мир современного искусства и условно субкультурный мир ролевых игр. Однако во многих случаях достаточно прийти и сделать то же самое на территории искусства, чтобы оказаться релевантным его нынешним практикам.
Deus Ex Machina

Какие‑то из моих игр были историческими — например, игра про падение Константинополя. Другие были про современность или фантастическое будущее. Например, игра про дистопичный мир, где весь город — огромное реалити-шоу, и все в нём живут по законам рейтинга: на каждом углу на тебя смотрит камера, ты зарабатываешь рейтинг, и на это завязаны и экономика, и социальная структура. Это была попытка переосмыслить общество спектакля. В таких играх участвовали до двух тысяч человек, и их разработкой занималась большая команда. Последний из подобных моих проектов рассказывал про трансгуманистическое будущее: человечество встречается со смертью и пытается её победить, при этом понимая, что победа превратит людей в нечто совершенно иное. С течением времени у меня возникла потребность вступать в диалог с новыми людьми. При этом я довольно быстро убедилась, что язык игры понятен очень широкой аудитории, — и с тех пор мой интерес к созданию игр в том числе для тех, кто не ассоциирует себя с ролевым сообществом, только растёт. Так что последние два года я стала делать небольшие игры в контексте современного искусства.
Первые игры на Западе — это время первых хеппенингов, а по‑настоящему широко они распространились в конце 80‑х — начале 90‑х, тогда же, когда и партиципаторные практики в искусстве. Причём ролевые игры стали проводиться во всех западных странах, часто независимо и с разной предысторией. Так что, полагаю, это проявление общих тенденций. Только хеппенинг возникает в той среде, что умеет говорить на языке современного искусства, а ролевые игры — в других сообществах. Однако сейчас число людей, занимающихся ролевыми играми, но при этом вовлечённых в те или иные практики современного искусства, уже очень велико. Всё смешалось.

В прошлом году нас с Арсением Жиляевым позвали в нью-йоркский Бард-колледж, и мы придумали для них игру «1597 секунд». Изначально разговор шёл о лекции, но нам захотелось сильнее вовлечь аудиторию, при этом в контексте проблем, которыми занимается Бард-колледж. Разговор шёл о том, как одни и те же предметы по-разному воспринимаются и экспонируются в разных контекстах. В нашей игре все игроки получали разный опыт. Кто‑то всю игру пробыл неподвижным предметом — менялся только контекст, превращался из бытового в выставочный. Для этих людей тренинг стал чем‑то сродни медитации: наших объектов никто не мог касаться, они сидели с закрытыми глазами. Другие из объектов почти сразу превращались в людей, обретали новые роли и быстро их меняли. Эта игра отличается от тех, что обычно проводятся в ролевом сообществе. Не хотелось бы говорить, что обычно игры более развлекательны, но они сильнее захватывают участников, причём всех в равной мере. Мне, привыкшей писать игры для другой аудитории, стало сложно в тот момент, когда мы решили, что, во‑первых, опыт у всех игроков будет разным, а во‑вторых, что часть участников будут пассивными на протяжении всей игры, и это не будет их собственным выбором. Обычно у игроков больше возможностей повлиять на ситуацию. Тем не менее нужно сказать, что сообщество ролевиков неоднородно. Я помню игру, где все участники были камнями. Они всё время пролежали неподвижно и всего только и могли, что шёпотом разговаривать с соседними камнями. В одной из самых интересных для меня игр прошлого года я два дня провела с закрытыми глазами. Это был постапокалиптический мир, похожий на «Птичий короб» Джоша Малермана, где нечто пришло в мир и любой, кто это видит, немедленно кончает жизнь самоубийством. По сюжету мы, несколько десятков человек, нашли убежище, но этот новый мир проник и туда. Игра обсуждала то, как ты строишь сообщество в этом необычном состоянии и можешь ли ты жить без зрения. Очень интересный опыт. И у меня не повернётся язык сказать, что эта игра не была искусством.
Мы вдохновенно рассказали Арсению Жиляеву, чем занимаемся, и спросили, искусство ли это с его точки зрения. А он ответил: нет, поскольку вы не институционализированы. Я тогда была сильно возмущена
Вообще, в ролевом сообществе уровень рефлексии очень высок, игры крайне редко создаются только для того, чтобы побегать и пострелять. Хорошим тоном считается уметь ответить на вопрос, о чём твоя игра, какие темы она затрагивает, о чём ты в ней хочешь поговорить. Ролевики реже ссылаются на Дерриду или Ги Дебора, но их интерес к осмыслению мира ничуть не меньше, чем у художников. Я бы сказала, что игры столь популярны именно потому, что с их помощью может быть удовлетворён этот интерес, но участнику не приходится преодолевать столь высокий порог, как в современных музеях.
1597 секунд

Институт овладения временем — фиктивная научная организация из будущего, в котором люди, победив смерть, учатся временем управлять. По сюжету игра представляла собой первый тренинг для поступивших в этот институт. В процессе этого тренинга участники должны были побыть предметами — свидетелями разных исторических моментов, которые путешествуют сквозь эпохи, меняются и по‑разному воспринимаются на каждом новом этапе. На одной из игр участники выбрали такой пример: в Северную Америку прибывает первый корабль с рабами, на нём есть цепь, которой их приковывали, парус и колода, на которой что‑то рубили. Изначально все эти вещи существуют в связке, можно считать это своего рода коллекцией. Потом эти предметы попадают в магазин, где их пытаются продать, потом в музей в качестве исторического собрания, затем тот же набор предметов пытаются переосмыслить в контексте выставки современного искусства, а какие‑то из них оказываются объектом религиозного поклонения.
Единственное — важно помнить, что в играх всегда есть отдельная вселенная, созданный мастером мир, магический круг, в который ты входишь и где существуешь в отрыве от повседневной жизни. Иногда художники это используют — в той же знаменитой «Битве при Оргриве» Джереми Деллера. Однако гораздо чаще художникам интересно не создавать эту границу, а размывать её и переосмыслять. Мастерам же классических игр обычно хочется посмотреть, что происходит, когда ты эту границу ставишь и уходишь в какое‑то отдельное пространство. То, что там с тобой происходит, оказывается тоже важным, интересным и воздействующим на твою реальную жизнь, но чтобы это пространство возникло, граница должна появиться. Есть яркая история с игры «Великая война» — про Израиль в I веке нашей эры, про столкновения евреев и римлян, но в современном антураже, со страйкбольным оружием и телеграм-каналами. Та игра обсуждала феномен радикализации. Один из участников играл человека, который по логике игры постепенно превращался в идейного террориста. Во всех предыдущих играх этот человек всегда играл на вживание, сливался со своим персонажем. Но на этот раз он в какой‑то момент понял, что больше не может оставаться единым целым с таким человеком. У него был кризис, он несколько часов не мог понять, как быть дальше. Но в конечном итоге сумел отступить и доиграть уже по‑другому, оставаясь создателем и зрителем, но не персонажем истории.