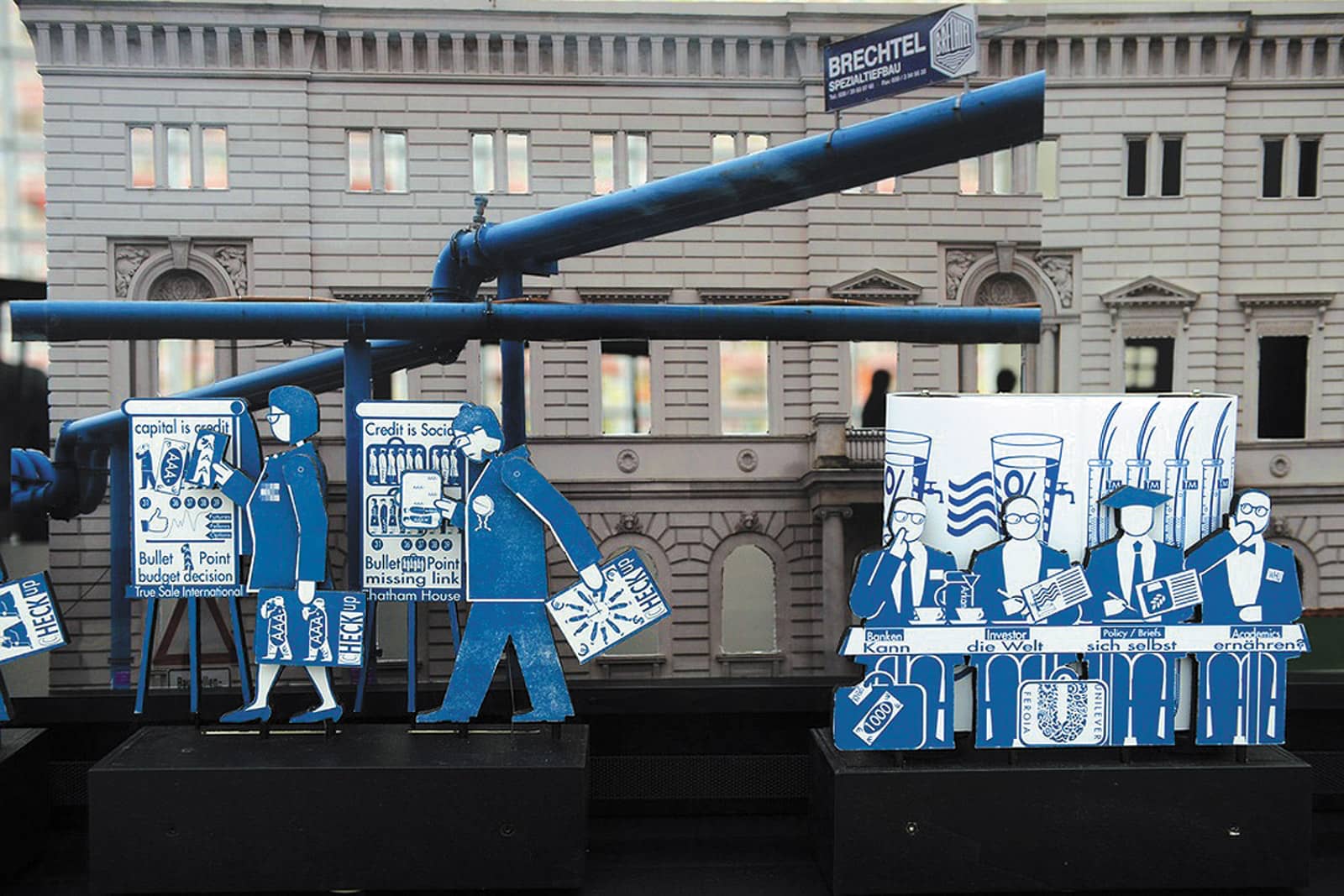Выбор критиков. Дарья Курдюкова: Сун Дун
Волна признания накрыла пекинца Сун Дуна после выставки «Не выбрасывай», которая вояжирует по свету с 2005 года

Разнокалиберные табуретки, разномастные двери, войско пластиковых бутылок — это сундуновская консервация эпохи и себя в ней. Впрочем, поначалу Сун Дун изучал живопись, но порвал с ней после событий 1989‑го на площади Тяньаньмэнь, когда студенческие демонстрации были жестоко подавлены войсками и закончились сотнями погибших участников.
Уже в 1990‑х Сун Дун был заметной фигурой в китайском искусстве концептуального толка. Занимался, например, перформансами. Один из них — дневник, который пишется водой на камне, — длится до сих пор. Когда в детстве отец показывал ему азы каллиграфии, единственными доступными материалами были как раз эти — и Сун Дун использовал свои воспоминания, принявшись в 1995‑м за проект, размывающий границы существующего и несуществующего, видимого памяти и скрытого от посторонних глаз. И Тяньаньмэнь в 1990‑х он ещё вспомнил, сорок минут пролежав на зимней площади лицом вниз, чтобы от его дыхания образовался лёд: террора не забыть, преступления не смыть, а отчуждения не растопить.
Сун Дун рядками и стопками раскладывает домашнюю утварь, но это не сделанный из посуды гигантский череп «Очень голодного бога» Субодха Гупты. В отличие от вычищенного до блеска и сияющего коммерческим лоском символа потребления и одновременно vanitas у Гупты, у Дуна речь о поэтизированной рухляди. Параллелью к его скульптурно-архитектурным вариациям из старых дверей станет хоть айвэйвэевский «Шаблон», возведённый из окон-дверей разрушенных домов династий Мин и Цин (с XIV по XX век), хоть построенные из оконных рам башни-тоннели-домины Чихару Шиота, хоть «Ротонда» и «Павильон для водочных церемоний» Александра Бродского.
Публику в Сун Дуне подкупает отсутствие позы и открытость. Он не трудился над созданием сценического имиджа, а вместо того закрутил свою биографию, историю страны и искусство в тугой узел. Китайская культурная революция повернула русло жизни: благополучие семьи его матери рассеялось, когда одного из родственников посадили как «агента капитализма». Отец Сун Дуна, инженер, привиделся властям контрреволюционером и был сослан в лагерь.
Отец умер в 2002‑м, спустя три года Сун Дун уговорил мать вместе сделать инсталляцию, сложив, как для каталога, одежду, бутылки, тюбики из‑под зубной пасты — тысячи накопленных ею за годы предметов. И неоном на стене написал: «Пап, не волнуйся, мы с мамой в порядке»
Вот этим уходящим в личную биографию «но» объясняется скудный бытовой скарб в объектах Сун Дуна. Отец умер в 2002‑м, спустя три года Сун Дун уговорил мать вместе сделать инсталляцию — ту самую, «Не выбрасывай» (No Waste, 2005), — показав хижину и сложив вокруг, как для каталога, одежду, бутылки, тюбики из‑под зубной пасты — тысячи накопленных ею за годы — авось когда‑нибудь пригодится — предметов. И неоном на стене написал: «Пап, не волнуйся, мы с мамой в порядке». Это была инвентаризация времени и материализация памяти. А когда ушла мать (в 2009‑м она упала с лестницы, спасая раненую птицу на дереве), тотальная инсталляция стала продолжением уже и её жизни, быта как бытия.
На той же струне сыграл показанный на 54‑й Венецианской биеннале забор-лабиринт из пресловутых дряхлеющих дверец шкафов, окружающий хибару с голубятней на крыше. Нельзя китайской бедноте надстраивать жилища, а птичники делать можно. Поэтому последние стали первыми. Проект о «Мудрости бедноты», как и многие прочие у Сун Дуна, многолетний, одну из вариаций привозили на I Киевскую биеннале, где среди прочего стояла кровать с проросшим сквозь неё деревом, а вместо стен — снова двери. Закроешь — личное пространство, откроешь — общее. Сочетая сентиментализм с жесткостью, Сун Дун не только обнажает собственные раны, но и метко бьёт по социальным язвам. Без пафоса. Любопытно, куда дальше приведёт его лабиринт памяти. Главное, чтобы продолжая эту тему он сам не загнал себя в творческий тупик.
То, как из ничего рождается нечто, как что‑то обращается в ничто, наконец, то, как консюмеризм подставляет то один, то другой бок, художник тоже обыграл, и вполне иронично. В нулевых по миру гастролировал его «гастрономический» опус «Поедая город» (Eating the City). Расправляясь с бисквитным городком, человек обращает метрополию в руины — (у) потребляя, как принято в нынешнюю эпоху, ведь и плоды творчества суть рыночный продукт. А в сундуновском ландшафтном объекте «Сад ничегонеделания», который побывал даже на тринадцатой кассельской «Документе», поросший травкой внушительный холм из отбросов венчали неоновые слова «Doing Nothing». «И это назовут произведением искусства», — словно плутовато пеняет автор на оптику постмодернизма.