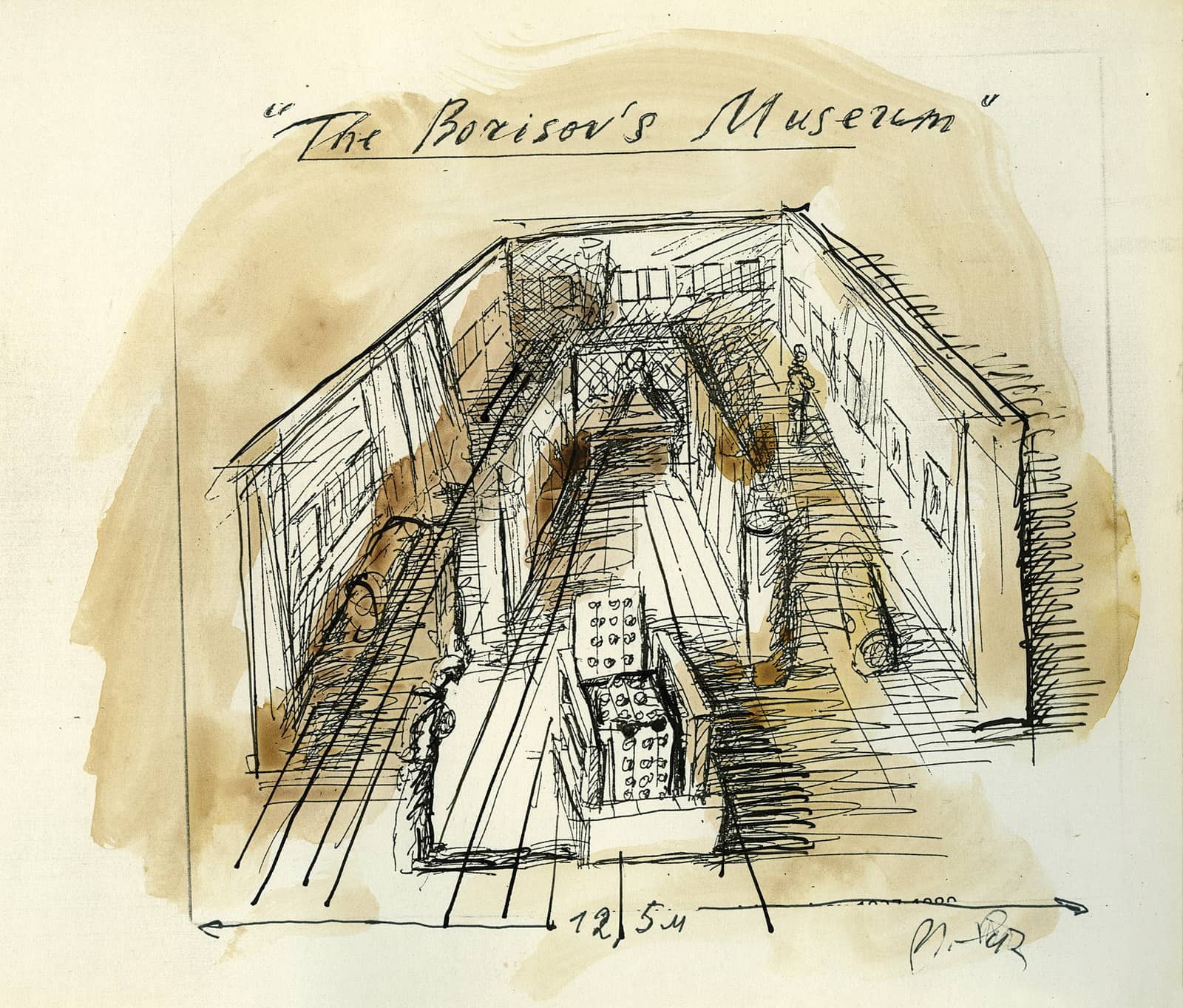Бегство от амнезии. Музей как массмедиа
Эссе Андреаса Гюйссена — ещё один фундаментальный исторический текст, анализирующий особую роль и статус, которые музей приобрёл в современную эпоху. По мнению Гюйссена, это единственная институция, которая способна дать посетителю подлинное переживание реальности в эпоху электронных СМИ и виртуальных пространств, и тем спасти его от потери памяти. В 2012 году автор переработал текст и создал вторую версию своего эссе для журнала «Искусство»

Битва с музеем как оборот речи прочно вошла в модернистскую культуру. Музеи, возникшие в своём современном виде примерно во времена Французской революции, которая сделала таковым Лувр, стали привилегированными учреждениями «querelle des anciens et des modernes» («где спорят древности и настоящее») i . Они оставались тихой гаванью посреди бури прогресса и служили катализатором для формулирования традиций и наций, наследия и канонов, предлагали варианты создания культурной легитимности. Структурированные архивы и собрания помогали западной цивилизации найти свою идентичность, проводя внешние и внутренние границы. В то же время современные музеи постоянно подвергались нападкам как симптом культурного окостенения общества со стороны тех, кто выступал от имени жизни и обновления, борясь с мёртвым грузом прошлого.
Недавняя битва модернистов и постмодернистов — лишь один из моментов этого спора. Однако при переходе от модернизма к постмодернизму сам музей подвергся удивительным преобразованиям: впервые, возможно, за всю историю авангарда музей в широком смысле этого слова утратил амплуа мальчика для битья и стал для учреждений культуры любимчиком семейства. Этот успех музея, вероятно, станут воспринимать как важный симптом развития западной культуры с 1980-х годов, как естественный итог разговора о «конце всего», ведь именно в это время начали всё более активно возникать планы новых музеев (и сами музеи). Запланированное постепенное исчезновение общества потребления нашло свой контрапункт в неистребимой мании создания музеев. При этом понимание роли музея как места элитного сохранения культуры, бастиона традиций и высокой культуры сменилось на восприятие его как места массового общения со spectacular mise-en-scène (зрелищной мизансценой) и оперными излишествами. Говоря более конкретно, старая дихотомия между постоянным и временным экспонатом теряется, когда постоянное собрание музея непрерывно подвергается перестановкам и много путешествует, а временные экспонаты лелеют в видеозаписях и роскошных каталогах. Стратегии собирательства, цитирования, архивации и апроприации размножились в современной эстетической практике и часто сопровождаются заявленным намерением артикулировать критику излюбленных и центральных для музея понятий вроде уникальности и оригинальности его предметов. Нельзя сказать, что эти процедуры так уж новы, но их выход на передний план в недавнее время указывает на поразительно широко распространённое культурное явление, весьма адекватно названное уродливым термином «музеефикация» i .

И в самом деле, восприимчивость к музеефикации словно занимает всё бо́льшую часть повседневной культуры и опыта. Если вспомнить об исторических реставрациях старых центров городов, целых деревнях или пейзажах, объявленных музеями, расцвете блошиных рынков, показов ретромоды, волнах ностальгии, маниакальной самомузеефикации с помощью видеомагнитофона, мемуарах и исповедальной литературе, и если к этому добавить электронную тотальность мира в банках данных, то музей уже больше не может называться единственным учреждением со стабильными, чётко определёнными границами. В этом смысле музей стал одной из ключевых парадигм современной культуры. Новые музейные и выставочные практики соответствуют меняющимся ожиданиям аудитории. Всё большее количество зрителей ищет сильных ощущений, мгновенных откровений, грандиозных выставок скорее, чем серьёзного и тщательного освоения культурных знаний. Однако остаётся вопрос: как можно объяснить успех музеефицированного прошлого в эпоху, которую постоянно обвиняют в потере чувства истории, слабой памяти, широком распространении амнезии?
Те, кто прославляет музей как гарант неоспоримых ценностей, как хранилище западных традиций и канонов, как место, где ценится бесконфликтный диалог с другими культурами или прошлым, забывают о диалектической природе музея, вписанной в процедуры собирательства и экспонирования. Но это также не признаётся полностью теми, кто нападает на музеи в альтюссерианском смысле как на часть аппарата государственной идеологии, чьё воздействие ограничено удовлетворением потребностей в легитимности и господстве правящего класса.
Я не собираюсь делать релятивистской идеологическую критику музея как агента узаконивания капиталистической модернизации и торжествующего показа колонизаторских трофеев. Такая критика в равной степени сохраняет значение как в отношении имперского прошлого, так и в отношении нашего века корпоративного спонсорства. Я стараюсь доказать, что на ином уровне — и сегодня больше чем когда-либо — музей, кажется, отвечает глубокой человеческой потребности: он позволяет нам установить и выразить отношение к прошлому, которое также является отношением к мимолётности и смерти. Как сказал однажды Адорно, музей и мавзолей связаны не только похожим звучанием. Возражая против господствующих в интеллектуальной среде нападок на музеи, можно рассматривать музей как наше собственное memento mori. И в этом статусе музей, скорее, улучшает жизнь, чем мумифицирует её в наш век, склонный к разрушительному отрицанию смерти: музеи, таким образом, становятся полигоном рефлексии времени и субъективности, идентичности и инаковости.

Моя гипотеза состоит в том, что в век постмодернизма музей не только, как говорят некоторые критики, вернул себе положение традиционной культурной власти. Он также испытал процесс трансформации, которая может уникальным и специфическим образом сигнализировать о конце диалектической борьбы традиционного музея и современности. Выражаясь гиперболически, музей более не хранитель сокровищ и предметов прошлого, скромно экспонируемых для избранных экспертов и знатоков; он уже не находится в тихом центре циклона, и стены больше не защищают его от окружающего мира. Растяжки и плакаты на фронтонах музеев показывают, насколько близок стал музей к миру зрелища, народной ярмарке и массовым развлечениям. Музей засосало в водоворот модернизации: музейные выставки управляются и рекламируются как крупные зрелищные мероприятия со вполне подсчитываемой выгодой для спонсоров, организаторов, городских бюджетов. Музеи стали предметом гордости крупных метрополий планеты, чья слава в значительной степени зависит от привлекательности музейной составляющей. В самом же учреждении обязанности директора музея всё чаще разделяются на разные по своим задачам функции художественного руководителя и финансового руководителя. Давняя, но часто скрытая, близкая связь между культурой и капиталом становится очевидной, особенно сейчас, когда музеи всё больше зависят от фандрайзинга и политической конъюнктуры. Разумеется, включение музея в политику вызывает подозрение, но и это тоже можно обернуть на пользу. Мне часто кажется, здесь обнаруживается слабость диалектического мышления у тех же самых критиков, кто ранее многословно жаловался на идеологическую стойкость автономной эстетики. Именно те, кто ранее настаивал на неспособности искусства избежать воздействия текущей политической ситуации, сейчас проливают слезы по поводу наглой и грубой политизации искусства и культуры.
Именно те, кто ранее настаивал на неспособности искусства избежать воздействия текущей политической ситуации, сейчас проливают слезы по поводу наглой и грубой политизации искусства и культуры
Мне представляется, что есть три достаточно отчётливые — и частично конкурирующие — модели критики, пытающиеся разобраться в музейно-выставочной мании последних лет.
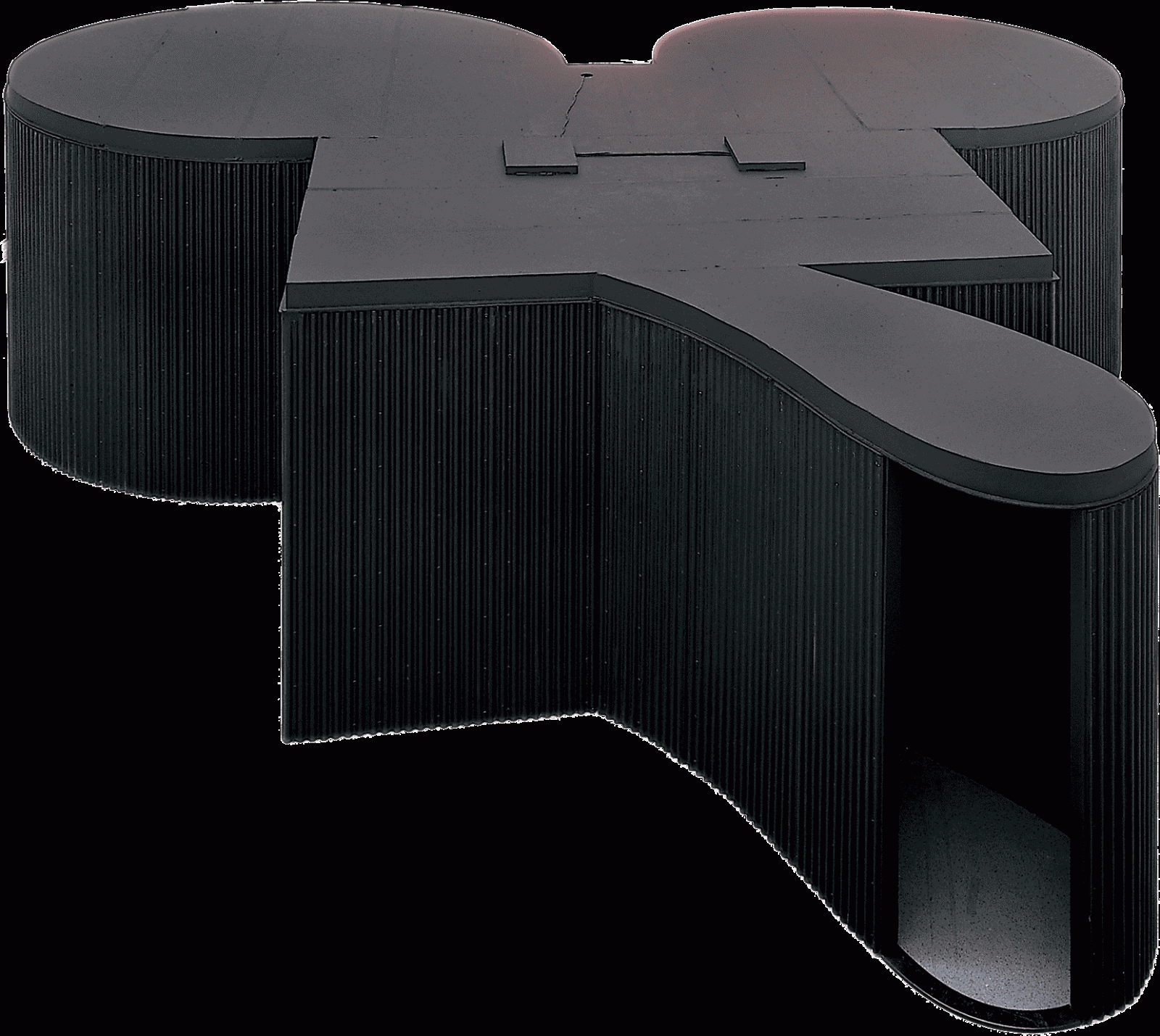
Первая модель ориентирована на герменевтику. Здесь культура рассматривается как компенсация. Эту модель разработали неоконсервативные немецкие философы, которые обращаются к социальной философии Арнольда Гелена, герменевтической традиции Гадамера и философскому тезису Иоахима Риттера о том, что эрозия традиций в современности порождает органы памяти вроде гуманитарных наук, обществ, выступающих за сохранение истории, и музеев i .
Вторая модель — постструктуралистская и скрыто апокалиптическая теория музеефикации как неизлечимой раковой опухоли нашего времени, высказанная Жаном Бодрийяром и Анри-Пьером Жёди.
Третья, наименее разработанная и более многообещающая, — несколько более социологическая модель, ориентированная на критическую теорию, доказывающая возникновение новой ступени потребительского капитализма и называющая его Kulturgesellschaft (общество культуры).
Средства массовой информации, особенно телевидение, создали неутолимую жажду испытывать ощущения, присутствовать на событиях, жажду подлинности и идентичности, которые виртуальный мир удовлетворить не способен
Симптоматично, что все три модели — характерное порождение 1980-х: они стремятся отразить эмпирические изменения в культуре музеев и выставок, в них нашли отражение культурные и политические споры 1980-х, они предлагают разные, даже противоречащие друг другу, взгляды на современную культуру и её отношение к политическим образованиям. Я не думаю, что какая-либо из этих моделей имеет право заявлять о своей абсолютной истинности, но это не недостаток, и он может быть исправлен какой-нибудь будущей метатеорией. Невозможность одного правильного повествования должна быть признана стратегическим преимуществом. Консервативная и постструктуралистская позиции усовершенствуют более раннюю критику современности и соответственно «общества спектакля». Кажется, что только третья модель сходит с протоптанной дорожки и концентрируется на конкретном явлении музеефикации.

Теория Kulturgesellschaft может стать хорошей отправной точкой для дальнейшего исследования. Kulturgesellschaft — это общество, в котором культурная деятельность всё больше функционирует как агент социализации, сравнимый и часто противостоящий ячейкам вроде нации, семьи, профессии, государства. В культурах и субкультурах, особенно молодёжных, идентичность принимается временно и выражается в моделях стиля жизни и сложных кодов субкультуры. Культурная деятельность в целом не рассматривается как источник отдыха и вознаграждения для субъекта, желающего восстановить стабильность и равновесие, глядя в зеркало объединённой традиции. Распространение культурной деятельности интерпретируется скорее как функция модернизации, представляющая новый этап в развитии общества потребления Запада. Вместо того чтобы отделиться от модернизации, музей функционирует в качестве привилегированного культурного агента. В отличие от стимуляции фантазмов Бодрийяра и Жёди, сводящих социальную теорию к теории средств массовой информации под сенью полузабытого Маршалла Маклюэна, понятие многослойного Kulturgesellschaft придерживается откровений критической теории франкфуртской школы, но отказывается распространять свои старые упрёки в адрес индустрии культуры на явление музеефикации. Тезис о Kulturgesellschaft обращается к проблеме индустрии культуры, предполагая, что средства массовой информации, особенно телевидение, создали неутолимую жажду испытывать ощущения, присутствовать на событиях, жажду подлинности и идентичности, которые виртуальный мир удовлетворить не способен. Иначе говоря, уровень визуальных ожиданий в нашем обществе достиг такой степени, когда жажда глядеть на экран трансформируется в желание чего-то ещё. Именно это предположение мне бы хотелось развить, поскольку оно ставит музей в положение, когда он может дать нечто такое, чего нельзя получить по телевизору или на экране видео. Связь между музеем как средством массового общения и цифровыми средствами массовой коммуникации сохраняется, но она не становится жертвой логики ложной идентичности. Разумеется, это не просто совпадение, что музейный бум возник одновременно с кабельной сетью метрополий: чем больше телевизионных программ доступно, тем сильнее желание чего-то иного. Или, по крайней мере, так кажется.

Но что иное можно обнаружить в музее? Реальную физическую материальность музейного объекта, выставленного артефакта, который даёт возможность получения подлинного опыта, в отличие от мимолётных нереальных образов на экране? Ответ на этот вопрос не будет однозначным, поскольку в человеческой культуре нет такой вещи, как первородный предмет до репрезентации. В конце концов даже старые музеи пользовались стратегиями выбора и расстановки, представления и построения повествований, которые всегда были несколько nachträglich, запоздалыми, реконструирующими и в лучшем случае округляющими то, что принималось за действительное и часто намеренно отделялось от контекста. В самом деле, при экспонировании часто старались забыть реальность, поднять предмет над его исходным, повседневным функциональным окружением, усиливая тем самым его инаковость, чтобы открыть его для потенциального диалога с другими эпохами.
Уровень визуальных ожиданий в нашем обществе достиг такой степени, когда жажда глядеть на экран трансформируется в желание чего-то ещё. И это ставит музей в положение, когда он может дать нечто такое, чего нельзя получить по телевизору или на экране видео
Музейный предмет — это уже исторический иероглиф, а не просто тривиальная информация; его прочтение — акт памяти, сама его материальность обосновывает историческую дистанцированность. В постмодернистском мире почтенный музейный приём используется для достижения новых целей, его усиливают зрелищными мизансценами. Потребность в имеющих ауру предметах и в необычных ощущениях — один из ключевых факторов нашей музеефилии. Предметы, сохранившиеся на протяжении веков, по самой своей природе находятся вне разрушительного круговорота товаров, оканчивающегося на мусорной куче. Чем старше предмет, тем сильнее его присутствие, тем больше он отличается от быстро устаревающих и уже устаревших вещей. Одного этого достаточно, чтобы снабдить его аурой, придать заново очарование, выходящее за пределы инструментальных функций, которыми он мог обладать в своё время. Возможно, именно изоляция предмета от породившего его контекста делает возможным получение опыта через музейный взгляд повторного очарования. Очевидно, что подобная жажда подлинности — форма фетишизма. Однако, даже если музей как учреждение прочно вошёл в индустрию культуры, здесь не идёт речь о товарном фетишизме в духе Маркса или Адорно. Сам фетиш музея выходит за рамки обменной способности. Он словно несёт в себе нечто похожее на мнемоническое измерение, что-то вроде способности помнить. Чем больше мумифицирован предмет, тем сильнее его способность давать опыт, ощущение подлинности. Какими бы хрупкими или мрачными не были отношения между музейным предметом и его реальностью как документа, он хранит отпечаток действительности, с которым ни телевизионная трансляция, ни кино не могут сравниться. Там, где средство является посланием, а послание — это мимолётный образ на экране, реальность неизбежно оказывается ретушированной. Там, где средство есть присутствие и только присутствие, а присутствие — это живая трансляция происходящих событий, прошлое всегда по необходимости остаётся ретушированным. С точки зрения специфичности медиаматериала не имеет смысла описывать постмодернистский музей как аппарат симуляции. Даже если музей пользуется видео- и телепрограммами в учебных и вспомогательных целях, он предлагает альтернативу переключению каналов, которая основана на материальности выставляемых предметов и их временной ауры. Материальность самих предметов функционирует как гарантия отсутствия симуляции, однако — и в этом противоречие — их эффект укрепления памяти не может избежать траектории симуляции и даже усиливается симуляцией зрелищной мизансцены.

Музейный взгляд сопротивляется прогрессирующей дематериализации мира, распространяемой телевидением и виртуальной реальностью компьютерных сетей. Взгляд на музейный предмет может дать ощущение непрозрачной и непроницаемой материальности, а также мнемоническое пространство, в котором можно осознать мимолётность и дифференцированность человеческих культур. Благодаря работе памяти, запущенной в действие и питаемой современным музеем, музейный взгляд расширяет всё сокращающееся пространство (реального) настоящего в культуре безвременны́х потоков информации. Представление о всеобщем банке данных и скоростных способах передачи информации точно так же несовместимо с памятью, как образ на экране телевизора несовместим с материальной действительностью.
Новая кураторская практика и новые формы зрительского участия превратили музей в совершенно иное культурное пространство — площадку культурных споров и переговоров
Популярность музея, на мой взгляд, серьёзный культурный симптом кризиса западной веры в модернизацию как универсальное средство спасения. Одним из способов оценки деятельности музея может стать определение того, в какой степени он помогает преодолеть коварную идеологию превосходства одной культуры над другими. Разумеется, многие музеи до сих пор испытывают трудности в приспособлении к своей новой роли культурных посредников в среде, где теория проповедует мультикультурализм, а действительность предъявляет межнациональную рознь, культурный расизм и ксенофобию. Однако представление о том, что музейный экспонат неизменно ассимилирует, подавляет, стерилизует, само по себе бессмысленно. Новая кураторская практика и новые формы зрительского участия превратили музей в совершенно иное культурное пространство — площадку культурных споров и переговоров. Возможно, однако, что именно это желание вывести музей за пределы современности, скрывающей свои националистические и имперские цели за тонкой вуалью культурного универсализма, проявит музей таким, каким он всегда должен был бы быть, но никогда не становился — подлинно современным учреждением, пространством, где культуры этого мира сталкиваются и демонстрируют свою разнородность, даже непримиримость, где они связываются друг с другом, смешиваются, где они живут вместе во взгляде и памяти зрителя.
Популярность музея, на мой взгляд, серьёзный культурный симптом кризиса западной веры в модернизацию как универсальное средство спасения
Нынешняя вторая версия моего эссе, созданная для журнала «Искусство», может потребовать короткого эпилога. Являясь частью более крупного проекта изучения бума памяти в период до и после 1989 года в Европе и Соединённых Штатах, музейная мания стала очевидным симптомом изменений в ощущении временны́х характеристик современной культуры. Однако музейный бум тех лет был всего лишь одним из аспектов нарождающейся культуры памяти, которая не увяла и до сих пор. Когда утопические проекции альтернативного будущего и их восхищение новизной стало постепенно терять силу в конце XX века, а крупные политические перемены сотрясали Советский Союз, Восточную Европу, Китай, Южную Африку и Латинскую Америку, человечество обернулось к множеству травм прошлого, чтобы сделать настоящее легитимным в политическом и культурном смыслах. Этот процесс с тех пор только усилился. Глобальная политика защиты прав человека стала требовать работы с собственным прошлым, и политика эта вполне может оказаться последним криком в метаморфозах утопической мысли. Одновременно, как показал распад Югославии в 1990-е, память может быть также мобилизована на службу коварной политике «этнических чисток». Память неизбежно сопровождается забыванием, уклонением, искажением, и она всегда подвержена политическим спорам. Музей не может остаться в стороне от этого процесса. Однако в идеале музей под руководством просвещённых кураторов в состоянии сдерживать напор политической борьбы за память. Будучи культурным и общественным учреждением, музей является хранителем различий между настоящим, будущим и прошлым.

Заглавие фильма Роберта Земекиса «Назад в будущее» (1985) становится отзвуком широкой культурной переоценки прошлого. Точно так же как и заглавие появившегося в том же году фильма Александр Клюге «Наступление настоящего на остальное время». Парадокс, схваченный в заглавиях двух фильмов, никуда не делся 27 лет спустя. С одной стороны, существует соблазн тотального отзыва памяти, обещанный всё более полными банками данных; с другой стороны, есть угроза потери памяти об историческом прошлом, перерабатываемом в потребительской культуре и средствах массовой информации. Самое трудное в настоящем кризисе — это размышлять о памяти и амнезии одновременно, а не просто противостоять им.
Когда я писал о музее как о средстве массовой коммуникации, предлагающем спасение от амнезии, интернета в его полностью коммерциализированной форме ещё не было. В 1995 году он неизмеримо усилил ощущение виртуальной реальности на экране, которое я противопоставлял желанию общества видеть реальные предметы в музее. Я не вижу сегодня причины отказаться от этого довода. Мне только хочется сказать, что сейчас виртуальная реальность проникла в музей. Хотя сегодня кураторское использование зрелищных мизансцен стало всё чаще обращаться к виртуальной технологии — как за счёт размещения в музее интерактивных компьютеров, чтобы дать посетителям более глубокие ощущения, так и в режиме онлайн, где сейчас можно осмотреть целое собрание музея, — это нисколько не уменьшает желания зрителя собственными глазами увидеть реальные предметы иных времён и культур, что может предложить только музей. Наоборот. Музей всё чаще выступает в качестве крупной общественной площадки, помогающей уравновесить мир перепутанного восприятия реального и виртуального, предметов и их представлений, материала культур — как нашей собственной, так и иных — и созданного этими культурами воображаемого мира. Так что нет ничего удивительного в том, что по сей день музейный бум не спадает, и музей как популярное средство массовой коммуникации по-прежнему в добром здравии.
Перевод Андрея Патрикеева, 2012.