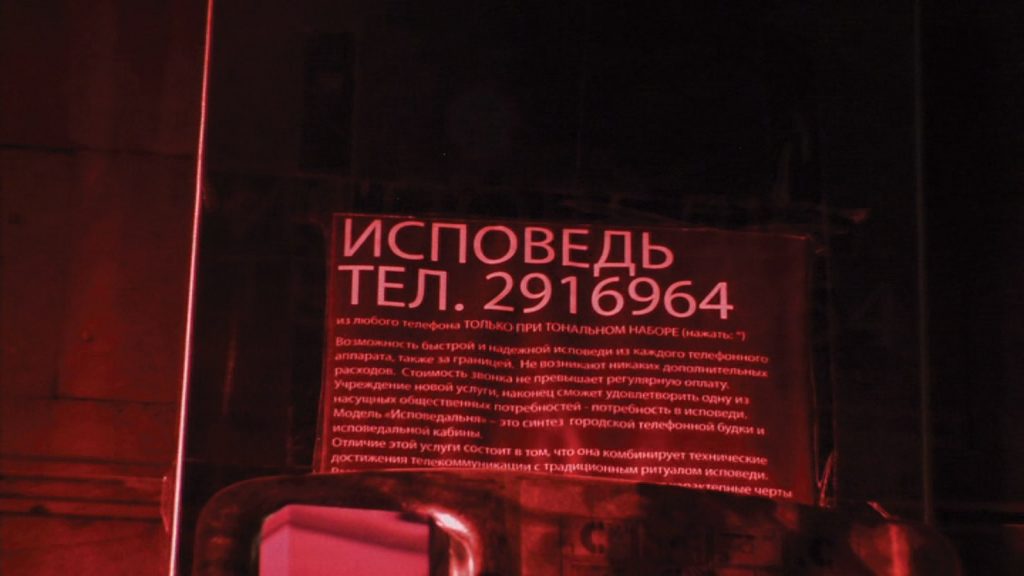Олег Кулик: «Театр тут не годился категорически»
Сценические опыты Олега Кулика — декларация о намерении изобрести совершенно новую художественную практику. Она призвана соединить в себе элементы театра, штампы актуального искусства и авторское «видение» публичных ритуальных действ. Всё это напоминает попытку адаптировать мистерию в формат шоу, транслировать «сакральное» в развлекательное. Окажется ли «религия» третьим лишним в уже сложившемся дуумвирате искусства и театра, или обогатит его актуальным духовным звучанием?

Олег Кулик. В процессе работы над проектом «Мессия» на музыку Георга Фридриха Генделя в театре «Шатле», Париж, 2009
Права на изображение принадлежат театру «Шатле». Изображение предоставлено Олегом Куликом
К чему я прибавляю фестиваль «Архстояние» 2010 года; ретроспективно театральный опыт вылился в трёхчастный проект. «Архстояние» — это был уже третий этап. Первый, с «Вечерней», был совсем идеалистический, когда от театра хотелось того, что он не может дать. И чего сейчас не может дать никто — непосредственное переживание божественного присутствия.
Непосредственно до того у меня был проект «Верю» на Винзаводе. И громко прозвучал. Было много приглашений с этой выставкой. А мы ни на одно не ответили положительно. Не согласились ни на одну гастроль, потому что было невозможно. Я представлял себе «Верю» в любом обычном, «нормальном» зале: и это был бы полный провал. То, что работало в подвале Винзавода (когда, например, практически не было работ на стенах), не стало бы работать в «белом кубе». Бывают такие вещи — ситуационные. Перформанс — такая ситуационная вещь, которую невозможно никуда потом перенести, она здесь и сейчас случается. Или не случается — в отличие от «нормального» искусства, которое можно снять с одной стены и перенести на другую. И вот, среди предложений насчёт «Верю» было и предложение «Шатле». Они прочли о выставке (в Artnews была большая статья) и говорят: «Мы хотим что-нибудь похожее». Я в тот момент как раз путешествовал по Тибету. И мне всё это — какой-то театр, какое-то Шатле, какой-то спектакль… Я говорю: «Знаете, у меня на этот счёт нет никаких особых идей. Да и театр я вообще — не особо. Нечасто туда хожу». Долго отбояривался. Но потом опять настойчивый звонок: «Всё-таки нам интересно то, что вы делаете; мы нашли тут один ваш лондонский перформанс с зеркалами, в Тейт-модерн, очень нравится нам это ваше решение. И мы твердо хотим, чтобы вы нам сделали постановку». А я сижу, с интересом наблюдаю тибетские пуджи. Заинтересовался притом не религиозной или сценической их стороной, а социальной. У них это как происходит: когда какой-то праздник или ещё что, в монастырь снизу поднимается народ (монастырь, как правило, на горе). Монахи ведут службу. В это время люди из числа собравшихся на монастырском дворе под руководством других монахов разыгрывают в масках какие-то сцены религиозных легенд — вроде спектакля в любительском театре. Сама служба общается с тонким миром, в ней мало действия. А сцены на дворе как бы повторяют её, но в другом, карнавальном измерении. И в это время сверху, с гор, спускаются аскеты. И всё это действо потом наблюдают, сидя на крышах монастыря, — полуголые, бомжеватые такие старички. К которым вежливо выходит благообразный настоятель, чинно садится рядом, а те на него и внимания не обращают, смотрят, что творится внизу.

Именно. Прекрасная социальная организация — низкий социальный уровень, высокий и надсоциальный, которые в один определённый момент объединяются в общем событии. Я потом нашёл у Гоголя в «Размышлениях о Божественной Литургии» указание на те же социальные функции: дескать, если общество наше ещё не распалось, в том причиной Божественная Литургия и «нераздельное единство» паствы, рождающееся в ходе службы. Люди выходят как проплакавшись, гораздо мягче и доброжелательнее друг к другу. Это не вопрос изменения сознания или духовного роста: люди и так хорошие, их надо только время от времени прочищать, возвращать им правильный настрой. Однако если бы не это путешествие по Востоку, а наблюдение за нашей литургией здесь, я вряд ли бы подвигся на эту постановку. Слишком у нас как-то всё это дистанцированно от жизни происходит. Церковь и мир, высокое и низкое — и ничего между ними. А в Тибете такой дистанции я не увидел. Напротив, постоянное соучастие. И это процесс очень прагматичный, конкретный; мне потом объясняли, как это происходит, как именно очищается душа в ходе такой психофизической прокачки. И зачем колокольчики и детское пение. Почему, кстати, с литургии нельзя уходить с половины: можно поймать такие гадости — это очень опасно, люди раскрываются…

А я в этот момент сижу на этой самой горе. Наблюдаю. И говорю в ответ: «Мне было бы интересно поставить современную литургию. Чтобы самому понять, возможно ли сейчас вообще такое. Готов взяться за любой материал. Что вам было бы интересно?» «Нам было бы интересно „Вечерню Девы Марии“ Монтеверди. Ставили её мало, вещь красивая».
Наверное, это можно сравнить с ухаживанием за девушкой. «Я надену правильную рубашку, приду с правильными цветами — в общем, проведу правильную церемонию и девушка моя». В этом много наивного, но вообще ведь мало попыток такого исследования, которое кто-нибудь бы проводил из современных художников. И я двигался, если с одной стороны, совершенно наугад, а с другой был железно последователен. Я долго думал, что делать. Я ведь должен что-то для сцены произвести? А в литургии очень строгие каноны. Очень минималистичные. Состоящие, в общем, в произнесении каких-то мантр, молитв и в правильном настраивании публики. Там ведь внутри нет никакой истории, никакого сюжета. Никакой виртуальной ситуации, которой ты бы мог сочувствовать из зала, но внутри которой ты в итоге так и не окажешься. Нет, нужное состояние достигается иначе, непосредственным переживанием. Зритель не приходит ПОСМОТРЕТЬ на литургию. За воротами поклонения он должен встретиться с чем-то трансцедентным. И искусство видимого тут не в помощь. Забавно, что первую полноценную оперу «Орфей» написал тоже Монтеверди. За что его чуть не прокляли (а претензий было много и к «Вечерне Девы Марии»), потому что полифония, применённая новатором Монтеверди, казалась настолько чудесной, что, по мнению церковников, отвлекала от самой службы. И первая опера «Орфей» была на мистериальный сюжет, сошествие во ад. То есть, Монтеверди, в конце жизни сам ставший священником, пытался создать литургию для людей, которые слишком далеки от церкви. Которых обычной литургией не возьмёшь, Спилберга им не хватало. Я стал слушать эту музыку, размышлять над вариантами, но любое действие, что бы я ни предлагал, не годилось. Не вписывалось в музыку. Любой драматический сценарий превращал это в бытовую историю — этот пошёл туда, тот сказал ему то-то… Театр не годился категорически. Театральной эта вещь мне никак не представлялась. Либретто самое простое, и драматургия, стало быть, тут не работала. Я подумал: «На пуджах я смотрел в какой-то свой внутренний экран, когда внешние факторы лишь чуть направляют сосредоточенное наблюдение. Не как в театре, когда действие тебя целиком выхватывает из себя, и ты будто находишься на этой сцене…»

Скорее, суггестии. А тут, скорее, резонанс, когда общественное пространство, или пространство диалога, входит в тебя. Внутренне это переживается гораздо сильнее, чем можно подумать по способам воздействия извне. Потому что внешне ничего вроде бы особенного и хитроумного: по кругу повторяемые действия, точно подбираемая интонация… Никакого саспенса, как и аплодисментов, ничего специально приподнимающего или отвлекающего тебя от ситуации, в которой ты реально находишься. Заметь, упоминая социальную функцию, я не говорю о левом искусстве, но об искусстве, всё-таки участвующем в жизни общества. Участие состоит не только в том, что ты бегаешь по улицам, помогаешь бедным, воюешь с богатыми, но прежде всего в том, что ты транслируешь вовне определённые состояния, эмоциональные и психологические. И придаёшь значение тем или иным ситуациям, создаёшь их, на что общество как-то должно реагировать. Поэтому задача была тотально увлечь зрителя, убрать какой-то центр, притом что действие в смысле наблюдаемых перемен было довольно статичным и малоувлекательным. Если б я был настоящим театральным режиссёром, я, может, занялся бы поиском именно сценических решений, но я подошёл как искатель. Как будто литургия создаётся заново. Как бы это выглядело в XVI веке, но не в смысле реконструкции постановки, а в смысле реконструкции переживания. (Потом, кстати, если и были упрёки, то как раз в отношении чрезмерной эмоциональности такого сопереживания.) Я понял, что там есть действующее лицо. Есть прекрасный барочный оркестр, почему его не поставить на сцену? Это ведь очень интересно наблюдать, это действительно религиозные люди, они верят в свои инструменты, для них они носят сакральный характер. И дирижёр у нас был такой, весь из себя горящий. Хор вёл себя, как священник на литургии, спускался и выходил в зал, двигался среди зала: как по Гоголю, диакон на службе, так и мой хор выступал словно ангел, носитель благой вести. А интерьер был весь покрыт изображениями. Возникла идея, что я должен действовать светом — лазерные проекции, прожектора, видео… При этом надо сказать, что я терпеть не могу театр Боба Уилсона, у меня начинает от него болеть голова через час. Он «Страсти по Матфею» ставил, у него Христос два часа стоит как столб; я не могу досидеть ни одной постановки. Можно было бы сделать как у Боба Уилсона. Но это была бы тогда стилизация под литургию. И это не была бы вещь для людей, для общества, как я об этом думал изначально.
Получился такой художественный продукт. Стилистически неопределённый — так, нет ясности, что же это такое, то ли это религиозное действие, то ли произведение искусства. Но само переживание было хорошее и свежее. Любой тебе скажет: я был не в обычном театре. Мы не достигли того эффекта внутреннего, которого хотели бы — чуда не произошло, небеса не разверзлись, но постановка удалась. Были очень противоречивые публикации в прессе, при этом было очень много хороших отзывов. При этом высокая оценка именно профессиональной прессы. В результате мне даже дали орден искусств и словесности Французской Республики. Приходили руководители католического общества юга Франции, говорили: «Вот бы для детей делали такие литургии, нам очень понравилось».
Театр интересен мне только тем, и в этом я вижу смысл этого жанра, что нет более ёмкой формы, что вмещала бы остальные виды искусства. Плюс живое присутствие. Все остальные чего-то лишаются: кино — живого актера, искусство — ритуальности: в музее ты делай, что хочешь. Потом, театр, как и жизнь, выдерживает многие интерпретации. Театр театру — огромная рознь, опять-таки, как и жизнь. Не знаю, во что это выльется конкретно, но посмотри на Билла Виолу. Посмотри на Дэна Флавина, Олафура Элиасона или того же Андрея Монастырского. Всегда будет речь идти будто об осколках каких-то храмовых действий. Обязательно тотально задействовано пространство, какие-то формальные ходы, и обязательно — ритуальное передвижение публики. Всегда публика должна занимать какое-то место, наблюдать какие-то ситуации, которые намекали бы на ТУ ситуацию. Метафора, да, но об ЭТОМ же всё. Просто применяются другие технологии. Взять те же перформативные практики: искусство существует тысячи лет, а перформанс? Ну, от силы лет сорок. Так что, мне кажется, искусство на пороге интересного открытия. Мучительного — многие сойдут с ума. Больше чем от наркотиков — ты почувствуешь привкус святости. А привкус святости похож на привкус гениальности. Ты сходишь с ума от осознания собственной личности. Жизнь должна быть подчинена ритуалу, дисциплине. Но мягкой, не травмирующей. Потому что заорганизовать, заструктурировать жизнь — это убить её, но отпусти её, и она сама себя убьёт.