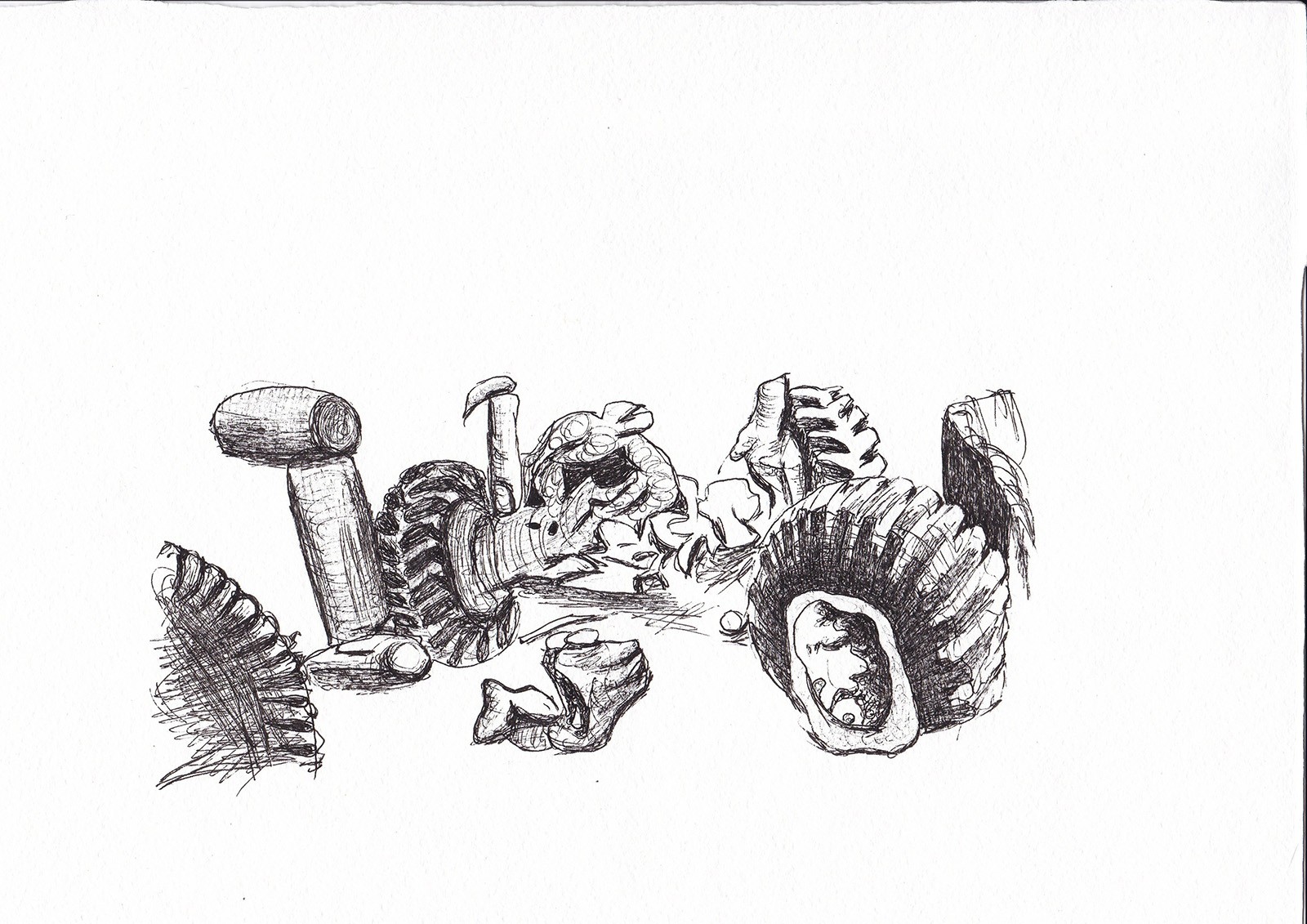Безучастность
Куратор и арт-критик Андрей Ерофеев утверждает, что слово «эскапизм» лучше всего описывает ситуацию в современном российском искусстве: когда художник лишён своего законного права быть культурным арбитром, ему остаётся только максимально дистанцироваться от этой культуры

Кто только не использует сегодня слово «эскапизм». Оно в последнее время превратилось в одну из главных описательных и оценочных культурологических категорий. Причём, несмотря на англицизм слова, это одно из немногих «местных» понятий, рождённых российской культурой и к ней же и обращённых. Сегодня оно выступает чуть ли не главной характеристикой современного отечественного искусства.
«Бегство от реальности», или, иными словами, «эскапизм», считается проявлением трусости и пассивного конформизма. Слаб художник! Далеко ему до фигуры правозащитника, блогера, репортёра и журналиста, которые вступают в открытую схватку с режимом
Итак, бывает остросоциальное искусство, не всегда снабжённое политической программой, но всегда яркое, актуальное, раскрытое на происходящие вокруг события, обличающее творящиеся вокруг безобразия. А бывает его противоположность — безразличное к социально-политическому контексту, к вызовам эпохи, замкнувшееся в себе, в домашнем «мелкотемье», закопавшееся вглубь языка, вглубь истории искусства, творчество одиночек-эгоцентриков. Его всегда недолюбливала советская критика. Разоблачала такое творчество взятыми напрокат у декадентов выражениями типа «искусство для искусства», «башня из слоновой кости» и ещё авангардным словечком «формализм». Такому искусству приписывался один общий порыв — «бегство от реальности». В советские времена такого диагноза было достаточно, чтобы испортить нормальную профессиональную жизнь и работу любого художника. Сегодня административно-репрессивная функция подобной критики исчезла, но налёт морального осуждения остался. «Бегство от реальности», или, иными словами, «эскапизм», считается проявлением трусости и пассивного конформизма. Слаб художник! Далеко ему до фигуры правозащитника, блогера, репортёра и журналиста, которые вступают в открытую схватку с режимом, бичуют его недостатки, высмеивают правительство и разоблачают преступления его клевретов. Хватило нескольких вызовов на допросы, ряд ночных обысков и уличных нападений «ряженых» казаков, чтобы оборвать цепочку «пересмешнической» традиции и начисто подавить уличный арт-активизм. Нет больше спектакулярных выходок «Войны», закончились видеоперформансы Pussy Riot. Умолкли шумные «монстрации». Где пародийные скетчи «Синих носов», где анархистские плакаты группы «ПГ»? А «Бомбилы», а «Протез»? Всем заткнули глотки. Все «обезврежены». Признавая эффективность центра «Э», я, однако, не думаю, что конец протестного искусства вызван одной лишь деятельностью спецслужб. Хотя спецоперации ускорили, конечно, процесс перерождения протестного искусства. Потому что, как известно, искусство, обращённое к массам, развивается в мягком социальном климате, при котором политическое противостояние не исключает дистанции его эстетического описания и разглядывания. Когда же экспонирование протестного искусства на улице было отменено дубинкой, а в музее — самоцензурой институции, протестное искусство начало чахнуть. Но есть и внутренние причины. Вектор творчества группы «Война», а потом и Павленского наглядно показывает нарастание кризиса по мере радикализации художественного акта. Из постановки символического сюрприз-спектакля для случайных зрителей он постепенно превратился в настоящую партизанскую диверсию, в нанесение материального ущерба врагу с жертвенной готовностью поплатиться головой за такого рода подвиг. Но художник не рождён быть Зоей Космодемьянской. Функция реального физического противостояния неприятелю не входит в круг его профессиональной этики даже во времена военных действий. Малевич не пошёл воевать с белыми, как и Пикассо — с фашистами. Профессиональная этика художника сориентирована на активность глаза — присущую ему способность по‑разному воспринимать, дифференцировать, анализировать, оценивать визуальную реальность, а также рефлексировать о способах её пластического выражения. Когда внешняя реальность до краёв напичкана визуальной пропагандой (как в советское время, когда всё небо было в красных лозунгах и портретах вождей), художник, как мы знаем по соц-арту, вынужден на неё реагировать. Здесь мы имеем дело с искусством деконструкции образа, опасного для ментального здоровья. Похожим обстоятельством объясняется долгожительство поп-арта. Его практика переиначивания рекламы жива в творчестве художников всего мира, поскольку визуальная агрессия рекламной индустрии проявляется до сих пор и повсеместно.

Но в сегодняшнем российском искусстве исчез не только политический активизм. Исчез и соц-арт, хотя налицо анормальная политическая реальность с усиленным идеологическим давлением режима на общество. И вот здесь нельзя не отметить любопытную особенность путинского режима. Его идеологическая пропаганда слабо подкреплена визуальными маркерами. Всё, что связано с новым идеологическим курсом власти, поворотом к неоимперскости, изоляционизму, антизападничеству, милитаризму, гомофобии и авторитаризму, почти не получило знаковой материализации в визуальных образах. Более того, основные визуальные сдвиги, произошедшие в постсоветской реальности, никак не поддерживают установок путинской пропаганды, а порой даже и опровергают их. Я имею, прежде всего, в виду «дружественную» среду обновлённого русского города с многочисленными местами и каналами социального общения и независимого от власти информирования. Чисто визуально «картинка» Москвы и многих других городов страны всё более и более становится похожей на современную Европу. Даже омоновские цепи и автозаки по картинке совпадают с аналогичным оснащением борцов с «жёлтыми жилетами». Конечно, нашлись художники (Павел Отдельнов, Данила Ткаченко, Виталий Пушницкий, Виктория Ломаско), оспорившие этот прозападный, отмытый от разрухи, нищеты и полицейщины визуальный образ современной России и изобличившие его лживость. Однако таких художников крайне мало и не они определяют облик новейшего российского искусства. Функция обличителя-репортёра безраздельно захвачена специализирующимися на этих сюжетах кинодокументалистами и фотографами. Художник, некогда контролировавший эту «передвижническую» социальную и культурную миссию, сегодня от неё оттеснён куда более проворными медиаагентами. Возвращаясь к «картинке» современного города с знаменитыми плиточными тротуарами, зонами рекреации, смотровыми площадками, парками и прочим благоустройством, следует признать, что от этой реальности художник не менее отчуждён, чем от политической жизни. Если в политику он как‑то ещё успел поиграть, то к градостроительным проектам он вообще никогда не был допущен. Не будучи включённым в основные социально-политические и развлекательные повестки, художник не является в новом российском обществе «тузом», «культовой фигурой», «кумиром». Но нельзя сказать в то же время, что он загнан в угол. Посмотрите, как развиваются и повсеместно возникают институции современного искусства. Художник не отрезан от зрителей, у него свой домашний круг читателей в фейсбуке, кружок почитателей и коллекционеров.

Однако же художник лишён дела. Есть такое французское понятие desoeuvrement, которое можно перевести как «отключение от делания» или как вынужденное безделье. Я имею в виду, конечно, не заказы на монументы героям, мозаики в храмах и росписи залов ожидания. Этого русский художник тоже, как правило, лишён, но по сравнению с главной его миссией это пустяки. Речь идёт об исключительном праве общекультурного арбитража, которое было осознано и всесторонне обсуждено, а потом теоретически прописано в концептуальный период развития российской культуры. Напомню, что Дмитрий Пригов определял эту задачу как «экспертно-критическую функцию», которую художник готов, способен и должен исполнять в связи с тем, что в процессе культурной эволюции он преодолел рамки профессиональных обязанностей и ограничений. Воспарение над профессионально дифференцированными, усечёнными ценностями позволяет художнику производить суждения от лица и с верхнего этажа всей культуры в целом. Примером подобного суждения может служить блестящее предсказание Владимира Сорокина, данное в его романах, о характере развития русской цивилизации. А какое предсказание продемонстрировал нам Олег Кулик, когда в образе дикой собаки отчаянно кидался на волкодавов, которых едва удерживали на цепи европейские полицейские? Разве это не напоминает отважно-инфантильное поведение наших мидовцев? Как не вспомнить также пророческую работу группы «АЕС+Ф» — «мусульманский проект», представляющий захват центров европейской цивилизации исламистами. Подобного же плана роман «Покорность» сделал его автора Мишеля Уэльбека первым писателем и главным «спикером» современной французской культуры. Но в «русском мире» художник не создаёт события и его «пророческая» (на самом деле художественно-аналитическая) деятельность не востребована и не оказывает благотворного воздействия на общественную жизнь. Именно этим объясняется безраздельное господство у нас доморощенных творцов низшего уровня. В Европе деяния и идеи писателей Проханова, Прилепина, Суркова, художников Сафронова и Шилова, скульпторов Щербакова и Бурганова были бы сразу опознаны как наивные порывы, как симптомы популистского, общественно опасного типа сознания и вовремя нейтрализованы совместными усилиями авторитетных акторов — философов, а также художников современного искусства, в том числе карикатуристов.
В общем гомоне криков, стонов, хохота и свиста, сотрясающем подмостки российских медиа, голос художников отсутствует. Им «насрать». Так недавно ёмко, кратко и точно высказался Эрик Булатов, сделав это слово слоганом целой серии своих работ
Сегодня в России художник-философ, «деятель культуры» загнан обратно в профессиональное стойло. Кое-кому удалось задержаться на промежуточном этаже локальных исследований, создать «лаборатории» городской фауны, пригородной флоры, жизни «на районе»

Среди разных профессиональных групп нашего общества художники наименее втянуты в эмоциональные реакции по поводу приобретения новых земель, космических провалов и катастроф, падения уровня пенсий, появления новых партий и введения очередных санкций. В общем гомоне криков, стонов, хохота и свиста, сотрясающем подмостки российских медиа, голос художников отсутствует. Им «насрать». Так недавно ёмко, кратко и точно высказался Эрик Булатов, сделав это слово слоганом целой серии своих работ. Вспоминаются французские импрессионисты, невозмутимо писавшие свои солнечные прогулочные пейзажные этюды под канонаду Парижской коммуны, под кровавые битвы Франко-Прусской войны, повлёкшей гибель монархии и позорное пленение Наполеона III, в период скандала вокруг Дрейфуса и дикого грабежа африканских колоний.
Художники не бегут от реальности. Они ею не востребованы. Лёжа на пригорке, с травинкой в зубах, они безучастно наблюдают исторический побег российского общества под девизом «Назад в СССР!»
Позиция безучастности и стратегия «бегства от реальности» принципиально различны даже тогда, когда по художественным результатам они почти совпадают, как, например, в случае похожести картин Ани Жёлудь и Дмитрия Краснопевцева. Это различие заложено в побудительных мотивах. В одном случае речь идёт о смирении, отказе от бунта и согласии принять условия, которые предлагает современное общество. А в другом — о страхе. Советские нонконформисты 1960‑х годов (не только художники, но и литераторы) во многом были движимы этим чувством. Идеологические структуры обязывали их к следованию детализированным нормам и пугали неотвратимым наказанием вследствие их нарушения. Эстетическое инакомыслие приравнивалось к политическому. А потому всякий, кто желал говорить своим голосом и смотреть на современный мир своими глазами, готовился к ответной агрессии власти. Угроза редко приводилась в исполнение. Но постоянный страх людей, не желавших иметь дело с советской действительностью и не имевших сил ей противостоять, толкал их на путь «эскапизма», отправляя в ретроспективное плавание по прошлым, а потому безопасным культурам. Кто‑то мнил себя учеником Дюрера, кто‑то «малым голландцем», иной — соратником Оскара Уайльда

Возвращаясь к популярности термина «эскапизм», её следует объяснять, мне кажется, симптомами, которые проступают на теле не искусства, а самого нашего общества. Ибо некомпетентность, недостаточная образованность, неверие в собственные силы, отсутствие пассионарности порождают и поддерживают в душах наших правителей и в массе бюрократического класса ощущение паники. Нет возможности не то что обогнать, даже следовать в общем фарватере движения мира. Нет сил соответствовать нормам и вызовам времени. Отсюда бесконечный обман, притворство, воровство ресурсов и достижений и — как радикальная мера — попытка выстроить современную жизнь по лекалам и законам канувшего в историю советского режима. Художники не бегут от реальности. Они ею не востребованы. Лёжа на пригорке, с травинкой в зубах, они безучастно наблюдают исторический побег российского общества под девизом «Назад в СССР!».