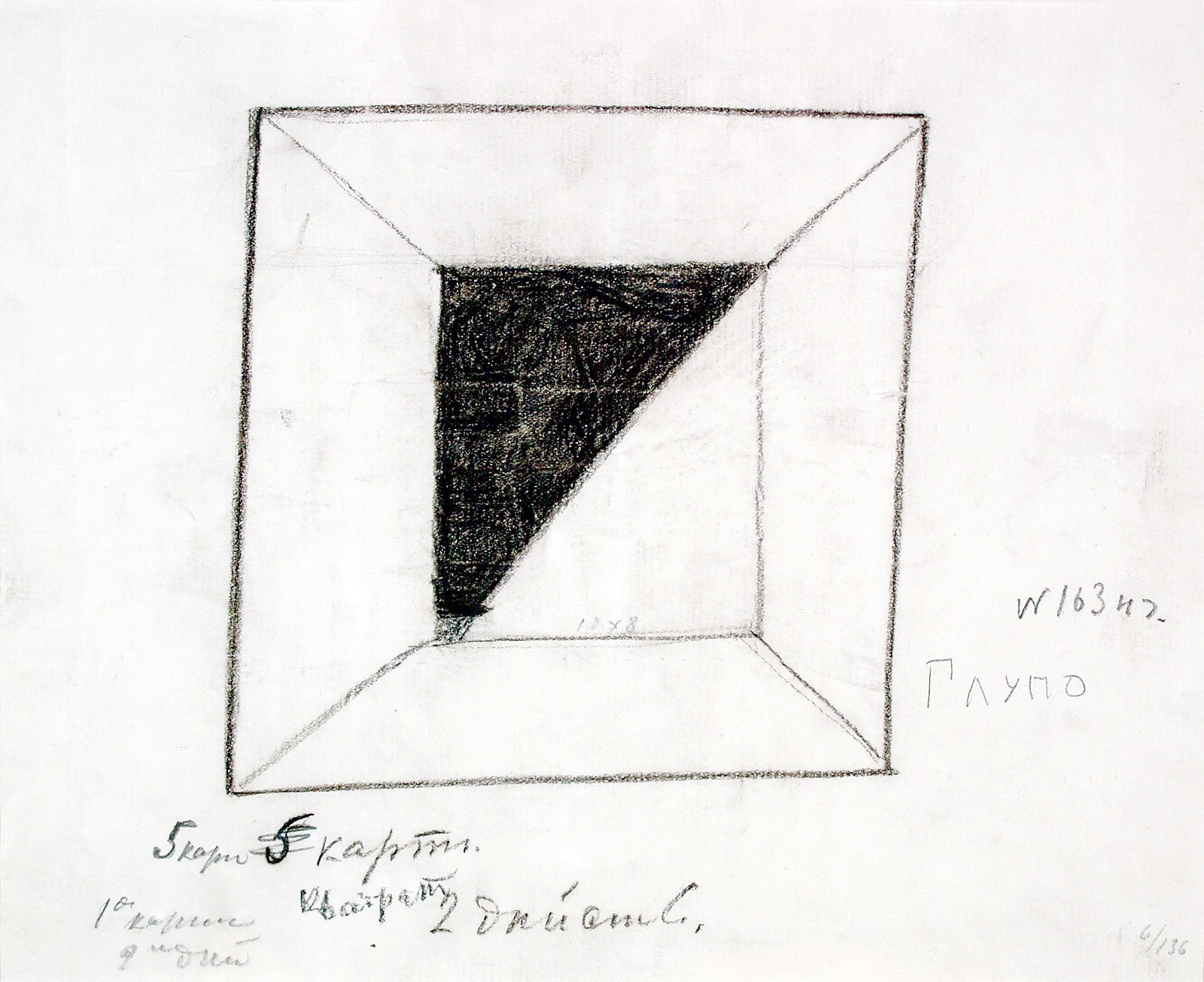За гранью театра и искусства
Эксперименты Антонена Арто и Ежи Гротовского подводили к границе, откуда ещё шаг — и театр перестанет быть театром, ступив на совершенно иную территорию. Примерно в то же время венские акционисты свои опыты всё ещё называли театром — хотя они, безусловно, театром уже не являлись. Природа обоих «искусств действия» формирует общую проблематику: отношение к тексту и слову, взаимопроникновение с пространством, контакт с аудиторией

«Театр жестокости»
Аристотель в «Поэтике» определяет театр как имитацию какого-то действия. В самом деле, действие в театре является имитацией или воссозданием событий, происходивших либо в реальном мире, либо в воображении драматурга. Аристотель не только характеризует театр как искусство представления, но утверждает, что такое представление и имитация эффективней, нежели реальное действие, и вызывает максимальную реакцию сопереживания у зрителей. В соответствии с этим определением сцена театра всегда оформлялась как царство семиотики — вне феноменологического или физического смысла действия или объекта. В традиционном театре каждый элемент на сцене, включая актёра, его действия и бутафорию, является носителем нескольких смыслов. «Актёр — это не просто мужчина, он ещё и Гамлет. Даже объекты являются актёрами; так, кресло на сцене не просто предмет, купленный в соседнем магазине, а кресло Гамлета» i . Обычно эта дуальная идентичность не вызывает конфликта, ментального или психического. Зрители способны на время забыть или проигнорировать реальность, существующую вовне семиотической идентичности вещей на сцене. Однако любое вторжение реальности на сцену подчёркивает, что они видят игру.
Любой сценический элемент, слишком нагруженный собственной природой, чтобы исполнять функции в качестве знака, может также вторгнуться и разрушить театральные иллюзии. Вводя как театральный элемент то, что само по себе феноменологически нагружено, театр вызывает конвенциональный шок. Это нарушение территории и прежних правил игры.
Но и чисто семиотической природе театра бросали вызов. История театра знает несколько попыток модифицировать правила представления, в том числе предпринятые Антоненом Арто и Ежи Гротовским. Оба настаивали на органической реальности театра как источнике его силы и, таким образом, не желали минимизировать феноменологическое присутствие ради содействия замыслу. Некоторые исследователи считают, что Арто и Гротовский не имеют связей с современными перформерами и не оказали на них прямого влияния, хотя в некоторых случаях это вполне вероятно. Но обоих можно рассматривать как артистический след, как вдохновителей и провозвестников идей, которые были рассеяны, забыты и снова подхвачены новыми поколениями экспериментаторов.
Антонен Арто (1896—1948) оставил след в самых различных областях культуры: литературе, театре, кино, живописи, теории театра. И все эти виды деятельности пронизывает единый эмоциональный тон: бунт против существующего положения вещей, желание «переделать человека» и общество, страстный и непрестанный поиск новой реальности и языка, способного её выразить. Арто не устраивало положение дел в современном театре. Он писал: «Нельзя продолжать беззастенчиво проституировать саму идею театра. Театр что-то значит лишь благодаря магической, жестокой связи с реальностью и опасностью» i .
«Нельзя продолжать беззастенчиво проституировать саму идею театра. Театр что-то значит лишь благодаря магической, жестокой связи с реальностью и опасностью»
В своих поисках он обратился к открытиям балийского театра, к ритуалам индейцев тараумара в Мексике. Именно там он пытался найти истину, утерянную, по его мнению, европейской цивилизацией. Прежде всего необходимо нарушить привычную зависимость театра от сюжетных текстов и восстановить представление о едином языке, возникающем на полпути от мысли к жесту. Модифицируя правила представления, Арто ставил целью пробудить инстинктивную реакцию публики, отдавая предпочтение образу и жесту, а не слову и тексту. Он хотел вернуть современный театр к его древней форме, которая была ещё нераздельно связана с ритуалом. В «театре жестокости» слово должно обрести функцию жеста, что достижимо, когда оно вместе с жестом и движением встаёт в один ряд пространственного языка.
Важным компонентом эстетики «театра жестокости» Арто также является предпочтение «непосредственного и яростного действия и стремления в любую минуту кинуться на зрителя». Есть и ещё один важный аспект. Арто считал, что «единственное, что реально воздействует на человека, это жестокость. Театр должен быть обновлён именно благодаря этой идее действия, доведённой до крайности, до своего логического конца» i . Этот обновлённый язык театра складывался вокруг постановки самого действия. Именно её он рассматривал не в смысле интерпретации текста на сцене, но, скорее, исходной точки для всякого театрального творчества. Именно благодаря применению такого языка и умению обращаться с ним будет прекращено прежнее разделение на автора и постановщика; на смену этому придёт представление о едином творце, взявшем на себя двойную ответственность за спектакль и за действие. «Мы избавимся от сцены и зала, которые следует заменить неким единым пространством, лишённым каких-либо отсеков и перегородок, — это пространство и становится настоящим театром действий».
Так как одна из основных задач театра Арто — «показ состояния бунта», и, следовательно, функция «катализатора смятения и смуты», зритель должен быть выведен из состояния покоя всеми доступными театру средствами. Кровь и эротика, вот что должно бить по нервам, писал Арто. Он собирался оставить существующие театральные залы и найти какой-нибудь ангар или сарай, что позволило бы действию разворачиваться во всех четырёх углах. Благодаря своему чисто восточному способу выражения этот объективный конкретный театральный язык ущемляет и зажимает органы чувств, пытаясь возвысить театр до уровня «экзорцистских обрядов». Он нивелирует личность, и это надличное или безличное отношение будет важным элементом его эстетики. Но, как ни широка была программа Арто, она не выходила за рамки театра как такового. Да, он представлялся «тождественным силам древней магии», обращённым к образам «старых Мифов», но это была по-прежнему «реальность театра», где он оставался «самим собой, то есть средством для создания истинной иллюзии». Этот театр был далёк от актуальной жизни, от её обстоятельств и забот.
«Бедный театр»
Итак, Арто развивает в своих экспериментах те элементы, которые в дальнейшем станут важными чертами перформанса. К ним можно отнести: надличное или безличное отношение; опора на жест и звук при недоверии к содержательному слову; способ обращения с аудиторией — идея «яростного действия» и стремления в любую минуту кинуться на публику.
Согласно Питеру Бруку, Ежи Гротовский более других приблизился к идеалу Арто. В одном интервью Гротовского спросили о сущности театра. Он отвечал: «В театре не нужно излишков костюмов, декораций, музыкального сопровождения, световых эффектов. Пусть театр будет бедным. Сущность театра — это актёр, его действия и то, чего он может достигнуть» i . Идеи Арто о жестокости, поиске и ритуале он разрабатывал путём исследования человеческого поведения в рамках театра. Гротовский делал акцент на теле актёра, как основном инструменте и среде представления, пытаясь выявить внутренний опыт актера и преподнося его пребывание на сцене как некий жертвенный обряд. Ритуалом стал сам акт творчества актёра, акт особый, который Гротовский считал ближе всего к исповеди — да, скорее, даже к жертве. «Та актёрская „жертва“, которую артист приносит в дар зрителю каждый вечер, должна происходить „здесь, сегодня, сейчас“» i .
Сам акт творчества актёра Гротовский считал ближе всего к исповеди — даже, скорее, к жертве
Ещё одним важным смещением акцента становится подход к созданию образа актёром. На сцене создаётся не персонаж, а идёт кропотливая работа над самим собой. Разрушается привычная зависимость от текста, драматургическая основа не имеет внешней логики развития. Главная задача — достичь необыкновенного и уникального духовного знания. Это знание содержится и выражается в основных звуках и движениях, но его нельзя передать словами. Именно поэтому так часто используется форма песни, жеста, движения. В связи с этой новой актёрской сверхзадачей возникает вопрос о драматургии — возможен ли спектакль, не имеющий в основе драмы? Гротовский легко комбинирует различных авторов в своих постановках, используя принцип монтажа. Текст подчинён ассоциациям режиссёра и актёров на ту или иную тему спектакля. Режиссёр сохраняет основные принципы развития действия: завязку, кульминацию и развязку, но оперирует этими понятиями в переложении для сферы психологического.
Гротовский радикально меняет и ещё одно кажущееся незыблемым театральное правило, деление театра на сцену и зрительный зал — в пользу единого пространства, лишённого каких-либо отсеков и перегородок. В 1973 году во Вроцлаве, во время показа последней редакции «Апокалипсиса» (спектакль имел пять редакций), в зале старой ратуши, сооружении ХIV века, для зрителей не было специально подготовленных мест — все пришедшие располагались на полу рядом с исполнителями, а действие спектакля разворачивалось в центре зала на досках. Если проводить сравнение с классическим театром и его делением на автора и постановщика, в экспериментальном театре Гротовского возникала ситуация, когда ответственность за действие брал на себя единый творец. Подобное происходило и во взаимоотношении с аудиторией: «четвёртая стена» традиционного театра была разрушена, и ей на смену пришла идея о «непосредственном и яростном действии». Эмоциональное напряжение, возникающее в процессе показа и диалога с аудиторией, должно было пробудить в зрителе желание действия, желание изменить свою жизнь.
Попытка Гротовского обнажить наиболее интимные психологические процессы актёра посредством физических усилий идут параллельно с использованием боли и страдания в акциях современных боди-артистов и ритуальных перформеров. В обоих случаях личный опыт исполнителя виден и доступен аудитории. Ещё один важный аспект в эстетике Гротовского — присутствие человеческого тела, а не его обозначения; реальностью тела замещается театральный знак. Физическое и психологическое принесение в жертву актёров этого театра создаёт прецедент для реальной боли и страдания, переживания и достижений в рамках художественного произведения.
М. Швыдкой пишет, что «Гротовский не избежал увлечения хеппенингом, который использовал в качестве средства агрессии против зрителей» i . Для доказательства этого он приводит цитату из высказывания Гротовского во время встречи с ним в редакции журнала «Театр»: «Нам казалось, публика должна быть весьма активной в нашем театре, должна участвовать в игре, должна действовать. В результате мы потерпели полное фиаско» i . Далее Швыдкой передаёт, что понял Гротовский: вместо одной условности, рождённой традициями создания и показа спектакля на сцене-коробке, возникает другая, навязанная авторами хеппенинга; Гротовский признаётся: «Мы поняли наконец, что не надо силой заставлять зрителя участвовать в какой-то игре, которую выдумал не он сам» i .
Задача, которую ставил перед собой Гротовский, находилась уже за пределами возможностей театра и поэтому ей не дано было разрешиться. Уйдя от обычного театрального представления, он не расстался с театром; раздвинув его рамки, он не нарушил его эстетических границ. В своих поисках Гротовский остался в рамках театра — с его нарративностью, диалогом, символизмом.
«Театр оргиастических мистерий»
Гротовский, развивая идеи Арто, делает акцент на теле актёра как на «среде и инструменте представления», внося ещё один штрих в создаваемый образ, делая значимым феноменологическое и эмоциональное присутствие исполнителей на сцене. Это ещё один элемент в мозаичном пространстве перекрёстного действия. Он вносит персональный аспект, отвергаемый Арто, даже если роль «креатора» является посреднической. Режиссёр делает акцент на теле актёра как среде и инструменте представления, внося персональный момент.
Теперь мы попытаемся проанализировать акции австрийского художника Германа Нитча, который находится по другую сторону рассматриваемой нами границы. Так как в своём творчестве он обращался к сходным источникам (ритуальные аспекты), подобная параллель даёт нам большую базу для анализа и сравнения.
Герман Нитч (р. 1938) с 1957 года разрабатывает проект «Оргийно-мистериального театра». Нитч принадлежит к группе австрийских художников, реализовывавших программу так называемого прямого искусства (в эту группу кроме него входили Отто Мюль и Гюнтер Брус) и даже называвших себя в какой-то момент «Венским Институтом Прямого Искусства», Institut für Direkte Kunst. Вначале эти художники создавали жестокие action paintings и ассамбляжи, но, разочаровавшись во вторичной природе живописи и скульптуры, стали искать форму выражения, что была бы более непосредственной. Центральная идея — императив «материального действия», то есть требование, чтобы обряды и ритуалы были реальными, непосредственными, буквальными — Событиями с большой буквы, а не мнимыми эпизодами конвенциональной драмы. Одной из причин для такого рода активности стал, несомненно, климат в послевоенной Австрии, существующие табу в области религии и морали. Открытая и прямая форма обращения к зрителю была насущной необходимостью не только для искусства, прежде всего она раздвигала границы самого искусства.
Ещё будучи студентом экспериментальной графической школы в Вене, Нитч придумал основной формат «Оргийно-мистериального театра» — шестидневную акцию, или фестиваль. Он искал новый язык звуков и действий, с помощью чего можно было бы достичь самой сути жизни, отбросив все «рудименты репрессий», включая слово высказанное и написанное. Если под театром подразумевать пьесу, Нитч не опирается на текст. Вместо слов он использует звук, шум, создаваемый музыкальными инструментами или просто предметами. Появляется партитура, где Нитч, наряду со звуковым оформлением, требует от актёра собственного вклада в звукоряд действия. Важным элементом первого же представления было требование, чтобы исполнители не играли вовсе, если под игрой они мыслят создание видимости, притворства, а, следовательно, обмана. Он пытается противопоставить «актёрской маске лицо из плоти и крови, искажённое эмоцией» i . Актёра просят «расколоть самого себя для достижения экстремального состояния экстаза в момент представления» i . И это делает акцент на том самом феноменологическом присутствии, которого так последовательно избегал традиционный театр.
В 1961 году Нитч создаёт действие под названием «Выкрики, шумы и потрошение агнца». Методики, которыми Нитч овладел в кунстшуле, несомненно, оказались полезны для него, но с их помощью он не мог выразить интенсивность чувства жизни. Рисование не давало возможности выразить во всей полноте его экзистенциальные идеи и концепции. Использование краски как некоего выражения жизненных процессов быстро становится для него неадекватным методом, и следующим шагом станет использование крови, а затем запахов и фактуры плоти, когда художник возьмётся за действительно базовые для человеческой природы вещи — ощущение тела, крови, активация вкуса и осязания, что даёт переживание чистого, докультурного существования. Это разрушает традиционный язык театра, отбрасывая нас к доязыковым формам общения вроде крика, и сама реакция на это искусство — «сильное физиологическое ощущение (сердцебиение, тошнота
«Все участники труппы и публика достаточно быстро поняли, что они являются частью того, что уже нельзя описать как театр. Позднее люди из публики и труппы ссылались на глубокие ощущения совместно пережитого. С самых первых минут представления становилось ясно, что публику лишают привычной и безопасной роли наблюдателя (кстати, публика освещалась с той же степенью интенсивности, что и исполнитель на сцене). Объекты с запахом передавались публике, и тут же возникали смущённые или оживлённые разговоры и обсуждения. Публике предлагали чувственную связь с объектами, использованными в представлении, актёры ходили по аудитории <…>, и зрители видели, как актёры что-то «делают на сцене, вместо того, чтобы играть».
Все участники труппы и публика достаточно быстро поняли, что они являются частью того, что уже нельзя описать как театр. С самых первых минут представления становилось ясно, что публику лишают привычной и безопасной роли наблюдателя
Наверное, аудитория почувствовала себя преданной из-за того, что они ожидали «фальши, а получили нечто домашнее и на пределе эмоций». Публике не оставалось выбора, она либо становилась участницей действия, либо отвергалась. Защищённое положение публики было уничтожено. «Где-то в середине представления, — пишет Вильсон, — и актёры, и публика почувствовали, что произошла какая-то перемена, публика начала получать удовольствие от личной взаимосвязи с представлением». К концу представления некоторых зрителей пригласили брызнуть краской на тело агнца, и сопротивления этому приглашению не было. Достаточно трудно сказать, на самом ли деле публика и исполнители испытали что-то вроде катарсиса. Но все актеры говорили о чувстве очищения, благодаря этому опыту, а некоторые считали, что «этот опыт изменил их жизнь».
Появление «Оргийно-мисте-риального театра» Нитча относится ко времени, когда ещё не существовало такого понятия, как «перформанс», и само явление находилось в процессе формирования, имея рабочие названия вроде «акции» или «театра»; а с 1959 года — ещё и «хеппенинг», введённый Аланом Капроу на представлении в галерее Рейбен в Нью-Йорке. Следует, однако, иметь в виду, что акции Нитча трудно идентифицировать с хеппенингом, так как хеппенинг «стихиен», а действия Нитча имели жёсткую структуру и не подразумевали столь активного участия зрителя. Само явление, находясь в процессе формирования, не имело стройной формы, (не в смысле самой структуры, которая была очень чётко обозначена), а с точки зрения более поздних поколений перформеров. Оно многократно воспроизводилось и следующее поколение перформеров избавится от этой имитационной функции театра. Нас интересует данное явление именно у своего истока, когда особенно заметны были его составляющие. И одним из таких влияний, безусловно, были идеи экспериментального театра того времени.
Что касается соотношения перформансов венских акционистов с античной мистерией, они расходятся, по крайней мере, в одном. Мы видим, что ритуал Нитча строго организован. Воспроизводится один и тот же набор элементов; роли участников и зрителей жёстко определены; возможность импровизации сведена к минимуму. В античной мистерии, где в ходе хорового действа каждый экстатически «выходил из себя», чтобы приобщиться к высоким таинствам, все действовали и творили одновременно. Там вообще не могло быть зрителей. Название «Оргийно-мистериальный театр» отражает переходный, мутирующий характер нового явления. Безусловно, обвинение в театральном фокус-покусе, как и появление термина «венская кровь», синонима чего-то ненастоящего, подтверждают эту мысль. «Если мы вглядимся в лица зрителей, мы увидим, что никто не принимает происходящее слишком всерьёз». Если говорить о театральном жульничестве, то акции Нитча, существующие на территории искусства, превращаются в симуляцию ритуала. Однако обращение к этой форме осознаётся через процесс абреакции, когда воспроизводство травматической ситуации создаёт прецедент осознания подавляемых негативных воспомининий и освобождения от них.