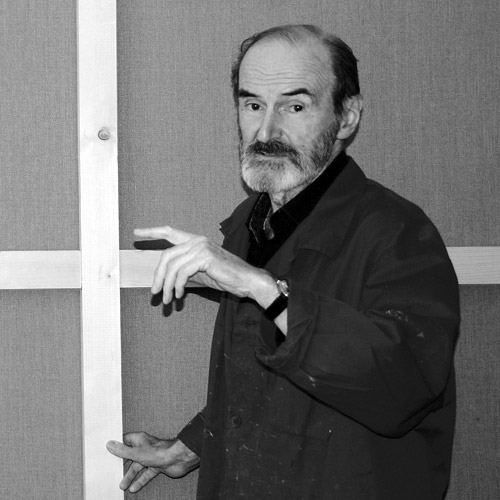О картине и о себе
В наши дни художники не так часто выступают со своими текстами. Речь идет не о манифестах, прокламирующих какое-либо движение или направление и зачастую написанных на «птичьем языке», доступном лишь узкому кругу профессионалов, а о внятном и аргументированном объяснении сути своей работы. Но, видимо, по словам известного нашего историка искусства, у «брата-художника» накопились претензии к своему «кузену-искусствоведу». В прежние времена выходила весьма полезная серия книг «Мастера искусства об искусстве». Полагаем, что такой жанр был бы интересен и для сегодняшнего читателя, желающего разобраться в современном искусстве. Статьей известного художника Эрика Булатова мы открываем рубрику новых «Мастеров искусства об искусстве». Итак, как говорили древние, «пусть будет услышана и другая сторона».
Я никогда не реагировал на то, что писали о моих работах. Но вот, прочтя написанное обо мне и об Олеге Васильеве Катей Дёготь в книге «Русское искусство ХХ века» i , решил: следует самому высказаться о том, к чему я стремился и чем руководствовался в своей работе. Я вовсе не горю желанием полемизировать с Катей Дёготь и поэтому оставляю в стороне многое, с чем принципиально не согласен, например, её утверждение: «картина — феномен крайне архаический, но сильно укорененный в русском искусстве». Хотя и не могу не напомнить, что и американский поп-арт, и немецкий неоэкспрессионизм — это по большей части тоже картины. Однако на некоторых положениях упомянутой книги хочется остановиться.
Катя Дёготь, совершенно справедливо указав, что мы с Олегом Васильевым в пятидесятые годы испытали сильнейшее воздействие теории композиции Владимира Фаворского и эстетики Роберта Фалька, далее пишет: «Фальк и Фаворский видели свой долг в построении трёхмерной картины-иллюзии и, следовательно, создании мифа о рае, что, в конечном счёте, мало чем отличалось от позиции соцреалистов». Или другая цитата: «Картина, в соответствии с её мифологией, есть окно в магическое пространство». Вот тут и надо разобраться.
Начнем с начала. Что такое картина? Конечно, это, прежде всего, поверхность. Идеальная поверхность — плоскость. Реально художник имеет дело только с плоскостью: на нее наносятся краски, по ней проводятся линии, с ней проделываются различные манипуляции. Но дело в том, что идеально плоским изображение быть не может. Стоит положить два пятна разного цвета или даже разной тональности, провести две линии разной толщины, и мы начнем воспринимать их находящимися от нас на разном расстоянии. Причем одни элементы будут казаться ближе не только по отношению друг к другу, но и к поверхности в целом, а другие — глубже плоскости, как бы по ту сторону от нее. Эти хаотические движения пятен и линий всегда надо было структурировать и организовать.
Классическое искусство знает два типа организации пространства на плоскости. Либо изображение накладывается как высокий рельеф, развивающийся в сторону зрителя (таково почти все немецкое искусство, Эль Греко, Рубенс, Караваджо, в крайнем выражении — «Гитара» Пикассо и контррельефы Татлина), либо рельеф выстраивается в глубину, по ту сторону поверхности (Вермеер, Веласкес, Клод Лоррен, почти все пейзажисты). Рельеф, выстроенный в глубину, Деготь называет «картиной-окном». Я ничего не имею против этого определения. Тогда высокий рельеф, развивающийся на зрителя, назовём, допустим, «картиной-рельефом».
Эти два типа пространственного конструирования существуют с тех пор, как человек нарисовал первого бизона на стене пещеры. Понятно, что каждый художник строил пространство по-своему, в зависимости от задач, которые он решал. Одному была нужна глубина, как, например, Клоду Лоррену, другому, скажем, Караваджо — предметная объёмность, третьему, допустим, Климту — максимальная плоскостность. Но в любом случае избежать структурирования, организации пространственного изображения на плоскости невозможно. Даже самая простая схема, чертеж (например, раннего Пикабиа), всё равно требует определения отношений с плоскостью. Никуда от этого не деться. При этом и «картина-окно», и «картина-рельеф», во-первых, абсолютно индифферентны к любому содержанию; во-вторых, вовсе не обязательно иллюзорны. Скажем, пространство Марка Шагала, Пита Мондриана или Джаспера Джонса нельзя назвать иллюзорным. А ведь всё это «картины-окна».
Что касается советского искусства, то оно вовсе не старалось ничего добавить, изменить или хотя бы внести новую интонацию в пространственное конструирование картины. Советское искусство было программно-консервативным в этом вопросе, впрочем, так же, как и во всех других профессиональных. Да это и понятно, ведь оно должно было всё время доказывать, что оно настоящее, и поэтому старалось изо всех сил быть похожим на искусство прошлого.
«Миф о рае» вообще не имеет отношения к пространственной конструкции картины. Это было обязательным содержанием советского искусства. Собственно, само существование искусства в советской системе и допускалось только ради этого содержания. И литература, и музыка, и театр, и кино — всё обязано было изображать рай вместо той действительности, которую люди видели вокруг себя. Для этого советское искусство успешно использовало оба типа картинного пространства. При этом картина-рельеф лучше подходила для отображения изобилия и счастливой жизни. Ведь надо было показать, что рай здесь, вокруг нас, в нашей комнате, а не где-то там, за окном. Ни Фаворский, ни тем более Фальк к такому мифотворчеству никакого отношения не имели. При этом, мне кажется, что тщательно структурированное пространство Фалька совсем не иллюзионистское. Если же говорить о пространстве гравюр и рисунков Фаворского (картин он вообще, как известно, не писал), то оно было очень условным, и, по большей части, его произведения относятся к типу рельефа, а не окна. Я всегда старался построить такое пространство картины, которое развивалось бы в обе стороны от плоскости: и к зрителю, и от него, то есть стремился использовать сразу два типа живописного пространства. Фаворский считал такой подход невозможным и даже саму попытку рассматривал как неэтичную. Так что он вряд ли одобрил бы то, что я делаю. Но я бесконечно благодарен Фаворскому и считаю себя его учеником, ведь он очертил тот круг проблем, в рамках которого я до сих пор остаюсь. Думаю, что-то же самое мог бы сказать о себе и Олег Васильев. Роберт Фальк для меня также очень много значил. Но это уже тема для отдельной статьи.
В построении картины, состоящей одновременно из двух противоположных пространств, мне на помощь пришло слово. Ведь слово адресуется зрителю. Это особое положение между картиной и зрителем делает слово естественным посредником: помогает зрителю войти в картину, стать ее участником, а не посторонним наблюдателем.
В этом смысле самой удачной своей работой я считаю картину «Слава КПСС». Она наглядно демонстрирует формулу двойного пространства, причем «картина-окно» и «картина-рельеф» абсолютно противопоставлены друг другу. Механизм действия этого произведения такой. Мы видим написанные по синему небу громадные красные буквы, занимающие всю поверхность холста. Это, вроде бы, даже и не картина, а обычный политический лозунг. Таких было полно в прежние времена. Большие красные буквы очень агрессивны. Они прямо набрасываются на нас и захватывают буквально все пространство. Но стоит нашему взгляду чуть-чуть задержаться, как замечаешь, что буквы, приближаясь к нам, отслаиваются, отделяются от синего неба, на фоне которого написаны. Зритель явно ощущает, что буквы ближе, а небо дальше от него. Я должен подчеркнуть, что этот стереоэффект очень важен и в других моих картинах, а здесь он — вообще решающий. К сожалению, репродукции уплощают изображение, но каждый, видевший мои работы, знает, что этот эффект присутствует.
Получается, что, безраздельно владея пространством, в котором находится зритель, буквы теряют связь с тем, что происходит по другую сторону поверхности. А там — небо и совершенно другое пространство. И оба эти пространства буквально во всем противоположны друг другу.
С точки зрения букв картина представляет собой весь мир: за ее пределами не может быть ничего. Конструкция из букв прочна, неподвижна — статична. С точки зрения неба — картина всего лишь фрагмент, за пределами которого остается огромное пространство. Здесь все — динамика. Через минуту облака изменятся, а мы видим лишь мгновение бесконечного движения. Таким образом, небо оказывается свободным от власти красных букв. Выясняется, что слова «СЛАВА КПСС» написаны не по небу, а по поверхности картины. Эта плоскость как бы устанавливает границу могущества букв, преступить которую они не могут. И сами буквы, играющие вначале роль решетки, отделяющей нас от неба, становятся как бы дырявыми, превращаются в систему окон, порталов, сквозь которые зритель может пройти. В данной работе использованы все три элемента, составляющие полноту пространственных возможностей картины: буквы — картина-рельеф, небо — картина-окно, поверхность — граница между ними.
Для меня «Слава КПСС» — формула свободы. Именно из ощущения возможности собственного движения сквозь поверхность картины возникло следующее про изведение «Иду», посвященное, конечно, вовсе не полету в космос, а возможности уйти сквозь картину, выскочить за пределы социального пространства. Я ведь не знаю, какое пространство откроется по ту сторону картины. Знаю только, что социальным оно не будет. Использование двойного пространства дает мне точку опоры, особый язык, на котором и можно говорить о социальном. Картина наглядно демонстрирует, что социальное пространство не безгранично, что у него есть предел — и его можно увидеть в целом, как бы со стороны, а не только изнутри. При этом речь здесь идет вовсе не о социальной критике. Я этим никогда не занимался, и напрасно Деготь мне ее приписывает. Моя задача — выразить нашу жизнь такой, какой она является моим глазам, совершенно не стараясь ее специально интерпретировать.
Как сказал Всеволод Некрасов:
Я хотя
не хочу
и не ищу
живу и вижу
То есть я просто не отворачиваюсь.
Найти образ этой жизни, дать ему имя — вот в чем я вижу свою задачу. Потому что-то, от чего хочешь освободиться, надо назвать по имени. И это должно быть его собственное имя, а не которое тебе хотелось бы ему дать. Чтобы каждый, живущий в это время и в этом месте, мог сказать: «Да, это моя жизнь». А уж нравится она, эта жизнь, или не нравится — дело хозяйское.
У меня была картина «Советский космос». Там был изображен Брежнев на фоне советской идеологической символики. В центре: солнце — герб СССР, вокруг: вращающиеся планеты — флаги республик сателлитов. Многие, глядя на эту работу, приходили в ужас, но были и те, кто удивлялся, почему я не лауреат Ленинской премии и не народный художник СССР.
А я понимал, что поймал верную интонацию.