Утраченные библиотеки Шёлкового пути
В 2016 году английская художница Эбигейл Рейнольдс выиграла грант на многомесячное путешествие вдоль Шёлкового пути в поисках исчезнувших библиотек. Надо полагать, изначально поездка представлялась художнице в романтическом свете: древние свитки, пески пустынь и она сама — паломник по сказочному пути. Реальное путешествие оказалось наполнено разочарованиями и тревогой, что задуманное ей не под силу, а она сама — наивная дурочка. Очевидно, впрочем, что итоговое произведение Эбигейл — это не фотографии того, что уже не существует, и не фрагменты её путевых записок, которые мы публикуем, а то, что изменилось в ней самой благодаря этому проекту

Я не готова
Я не готова к путешествию. Вот-вот начнётся моя поездка по Шёлковому пути в поисках утраченных библиотек. Полгода назад я провела месяц в напряжённых поисках информации. Я просматривала сайты, посещала библиотеки, писала письма бесчисленным учёным. Я нашла пятнадцать библиотек; точнее будет сказать, что я нашла пятнадцать названий, историй и общих сведений об их местонахождении. Всё, что я сделала после этого, — это нарисовала на карте неровную линию и отнесла этот листок в турфирму. Её сотрудники забронировали всё, что нужно для путешествия по моему маршруту, и договорились с будущими гидами. Я сама куплю билет на первый из поездов, после чего меня затянет в неостановимую череду перемещений. Я не видела ни одного изображения мест, которые планирую посетить. Я не говорю на языке ни одной из стран, где мне предстоит побывать. Я падаю в темноте и надеюсь цепляться в падении за полные плодов ветви.
Покидая дом
Энди просыпается и говорит, что мне пора. Я ещё немножко лежу в постели рядом с ним. Моя спальня. Самое безопасное место в мире. Сквозь стеклянную дверь, как обычно, пробивается свет настольной лампы. Дети ещё спят.
Я надеваю те вещи, которые с вечера оставила на диване. В полутьме слышен голос Энди: «Вытащи „болекс“ из сумки, она и так слишком тяжёлая». Затем он говорит: «Я тебя люблю». Я ещё раз его целую, захожу к детям и поправляю им одеяла. Они безмятежно спят, разметавшись и смяв постельное бельё. Уже сейчас я ужасно скучаю по ним, по мягкости их волос и кожи, по хрупкости их тел. Мне страшно, что я больше никогда к ним не прикоснусь. Я уезжаю так надолго. Я не плачу. Я спускаюсь вниз и погружаюсь в туман.
Портал
Аэропорт — это портал или врата, но они открыты не достойнейшим духом, а тем, кто правильно и вовремя исполнил предусмотренные действия. Вместо того чтобы соблюдать религиозный обряд, вы следите за временем регистрации, весом багажа и необходимыми для пересечения границы документами. Может, если бы я заранее представила многочисленные аэропорты, где мне предстоит побывать, чем‑то вроде этапов «Путешествия пилигрима», и мысленно преобразила их посещение в процесс духовного очищения, я бы относилась к ним спокойнее. Но сейчас я чувствую только то, что меня безжалостно оценивают на основании ничего не значащих бумажек. Выходы на посадку, время вылетов и номера рейсов — это какая‑то мешанина не укладывающихся в моей памяти цифр и букв.
Библиотека в пустыне
Вот-вот я доберусь до самой знаменитой утраченной библиотеки в мире. Несмотря на то, что иностранные туристы бывают тут с 1979 года, эти места вокруг высохшего озера Лобнор давно оставлены людьми. Некогда ключевой пункт Шёлкового пути, оазис Дуньхуан постепенно погрузился в песок. Его библиотека метонимически демонстрирует всё разнообразие культур, вовлечённых в поток Шёлкового пути: здесь хранились документы с V по XI века, написанные на многих языках, включая санскрит, тибетский, тангутский, уйгурский, хотанский, кушанский, согдианский, монгольский, иврит и китайский. В них говорилось о религии, истории, литературе, астрономии и астрологии; здесь можно было найти частную переписку и официальную корреспонденцию. Тексты писались на самых разных материалах — на древесине и шёлке, на обычной и пеньковой бумаге.
Пещеры Могао — это комплекс буддистских храмов и рабочих помещений учёных монахов, выстроенный в скале над высохшим речным руслом посреди пустыни неподалёку от Дуньхуана. Экскурсионный автобус, съехав с автомагистрали, доезжает туда за десять минут. Огромные группы туристов, желающих осмотреть храмы, ловко сортируются рядом с парковкой. Все пещеры пронумерованы. На плане я нахожу пещеры 16 и 17. Они соединены, и я решаю, что они одного размера. Пройдя сквозь входные ворота, я вижу, что пещера 17, которая называется Библиотечной, больше напоминает большой шкаф в проходе к пещере 16. Её порог достаёт мне до пояса. Это крохотная комнатка примерно три на четыре метра, но высота потолка в ней под стать просторному залу.
Большинство книг, которые я встречаю в Китае, относятся к двум формам — это тантры (буквально «ткацкий станок, ткань») и сутры (что означает «нить»). Как Тезей, следующий за нитью Ариадны по лабиринту, я двигаюсь по Шёлковому пути. На этом пути я пытаюсь выткать свой собственный гобелен из смыслов.
Пока я размышляю об этом, оказывается, что уже поздно. Я слышу, как охрана требует покинуть пещеры. Они закрывают большие деревянные двери в павильон, и мне приходится уйти.
Я возвращаюсь в пещеры Могао рано утром. В очереди к автобусу я замечаю буддистского монаха моложе меня. Благодаря высокому росту он выделяется среди китайских туристов. Похожий на скульптуру, он прижимает к груди свой билет, слегка накрутив его на большой палец. Его лицо выражает желание сохранить видимость умиротворения вопреки разочарованию. Я слежу за ним из окна автобуса. Я уже знаю, что он увидит.
Реставрационные работы в пещерах велись самым безжалостным образом. Каменные стены покрыты грубым цементом, как в муниципальном жилье 50‑х годов. В проёмах установили металлические двери, покрашенные в защитный цвет. Всюду пункты охраны, турникеты и ленточные ограждения. Бетонные дорожки направляют туристов от храма к храму строго в одном направлении. Я смотрю на них и думаю, что они напоминают кадры моей шестнадцатимиллиметровой плёнки, терпеливо и безропотно проскакивающие мимо рамки. Каждый год тут бывает по крайней мере миллион человек.
Что почувствует этот монах, когда увидит, что пещерные храмы забиты туристами, которые смотрят, но не видят? Разумеется, его боги, как и книги, покинули это место. Должно быть, они спрятались в глубине пустыни или в ущельях между скал. Мои, во всяком случае, да.

Всё закончилось
Пятьдесят тысяч рукописей, хранившихся в пещере 17, были такими же непохожими, как культуры, дававшие жизнь Шёлковому пути. Тексты разных эпох на разных языках скапливались в библиотеке вместе с приходящими и покидающими её путниками. Прекрасно сохранившаяся библиотека лежала во тьме и сухости прохладной пещеры, пока её не нашли и не разграбили.
Первым был венгерский путешественник Марк Аурель Стейн, чьи экспедиции финансировала Великобритания. В своих поездках по Азии он прослышал, что монахи в Дуньхуане обнаружили Библиотечную пещеру. Стейн не был библиофилом. Он просто свалил рукописи как попало в сундук, а потом отправил их через пустыню в Англию. Так, совершенно случайно, поразительная «Алмазная сутра» оказалась в Британском музее.
Следующим был француз Поль Пеллио, за которым по пятам являлись другие искатели, движимые желанием вывезти что получится. Империи бесцеремонно присваивают всё, что кажется им ценным, — такова история большинства утраченных библиотек. Их содержимое оказывается разбросанным по всему свету — оно достаётся тем, кто богат, а потому и силён. После того как большую часть собрания вывезли за границу, китайские власти приказали доставить остальное в Пекин, но многие рукописи были украдены по дороге и только малая часть прибыла по назначению.
Всё закончилось. Идеи, проведшие вместе во тьме тысячу лет, снова разлучены. Теперь они лежат рядом с другими книгами в собраниях по всему миру. В путешествии люди встречаются, расстаются и находят себе новых попутчиков. Обрывки бесед, которые я слышу за завтраком в гостинице, свидетельствуют, что в Дуньхуан приехали люди самых разных национальностей и культур. Мы спим все вместе в одном здании, наши номера — как библиотечные полки. Но мы не принадлежим этому месту.
1994
Я сажусь рядом с девушкой, которая говорит мне, что изучает искусство и экономику. «Вот как, — говорю я, — ты имеешь в виду джентрификацию?»
Используя приложение для транслитерации, она печатает на телефоне слово «Sotheby's», После долгих и мучительных объяснений я понимаю, что она надеется получить там место. Её обязанностью может стать поддержание максимально высоких аукционных цен на китайских художников. Я меняю тему и интересуюсь, когда построен аэропорт. «Он был всегда», — отвечает она.
«Сколько тебе лет?» — спрашиваю я. «Двадцать два». «Всегда» означает для неё всего лишь «с 1994 года».
Марко Поло
Плавая в бассейне в Долине Смерти, я услышала, как кто‑то произнёс: «Марко Поло». Сначала я даже не поняла, что имели в виду резвящиеся дети, но постепенно до меня дошло. «Марко!» — настойчиво позвал голос.
Это игра. Пловец с завязанными глазами ориентируется по выкрикам, чтобы найти и поймать других игроков. Ловец кричит: «Марко», остальные, дразня, откликаются: «Поло». В абсурдной обстановке великолепного голубого бассейна посреди песчаной пустыни мне чем‑то приглянулась идея двигаться вслепую, ориентируясь на голоса, повторяющие одно и то же слово со всех сторон, подвижные и дразнящие, как мираж.
Сейчас я следую за Марко Поло в более буквальном смысле. Моя дорога и материальна, и нет. Это маршрут на карте и маршрут в моём воображении. Его легендарное путешествие параллельно во времени моему. Но, услышав детские голоса, я поняла, что это имя, этот путь — это история про слепоту. Я двигаюсь вслепую к вожделенной цели, которая меняет очертания и ускользает, как мираж.
А может, я неверно поняла правила? Возможно, задача в том, чтобы среди всех звонких криков «Поло» найти и поймать определённого игрока, различив именно его голос в плеске резвящихся тел.
Паломничество
Паломничество — парадоксальный тип путешествия. Тобой движут противоречащие друг другу желания — погрузиться внутрь своего «я» и воспарить прочь от себя. Ты видишь себя освободившимся, оторванным от привычного мира. Ты приближаешься к собственным пределам, где, возможно, сможешь обрести что‑то новое.
В поездке по Шёлковому пути я отлично осознала эту двойственность целеустремлённости и капитуляции, подмеченную ещё автором «Путешествия пилигрима». Аллегория Джона Баньяна разворачивалась в мистическом пространстве, моё же путешествие проходит в физическом мире на стыке границ и культур, в поиске того, что у нас общего, но и того, чем мы отличаемся. Это просто продолжение работы художника. Наблюдая, мы должны помещать себя в реальность другого человека или явления. Чтобы смотреть и читать, требуется сопереживание и любопытство. Как и Баньяна, меня интересует тоненький зазор между мной самой и чем‑то, что больше меня.

Середина
Шёлковый путь когда‑то проходил по землям Ирана и Ирака, а затем устремлялся в Сирию, чтобы достичь портовых городов Италии и остальной Европы. У меня нет возможности попасть в Средиземноморье тем же маршрутом, поскольку правительство не рекомендует поездки ни в Ирак, ни в Сирию. В любом случае в обе эти страны не попасть иначе как через Тегеран.
Я надеялась посетить Дамаск, через который из Китая в Европу пришло производство бумаги. Мне также хотелось увидеть Багдад, где находился «Дом мудрости», библиотека, разрушенная монгольскими захватчиками в 1258 году. В прошлом, 2015, году Центральная библиотека Мосула была сожжена джихадистами, так же как и Мосульский университет и частные библиотеки в провинциях Найнава и Анбар. Во время Иракской войны 2003 года многие библиотеки, особенно в Багдаде и Мосуле, были разграблены и преданы огню — среди них Национальная библиотека Ирака, библиотека Аль-Вакф и библиотека Бейт Аль-Хикма.
В самолёте из Стамбула я отслеживала наш маршрут на экране, чтобы понять, будем ли мы пролетать над Сирией или Ираком. Этого не случилось. Турецкие газеты полны гневных статей про то, как Иран мешает эвакуации мирных жителей из Алеппо, которая началась как раз 14 декабря, когда я прибыла в Иран. Иранские газеты возмущены терактами в Стамбуле, которые случились прямо перед моей пересадкой в этом аэропорту на пути из Измира в Тегеран 5 января. У меня часто есть такое чувство, что непредсказуемое насилие вершится совсем рядом, хотя я знаю, что статистически у меня мало шансов стать его жертвой.
Предсказание
В библиотеке Тегеранского университета искусств я познакомилась с Мойган, главным библиотекарем. В кабинете Мойган по разномастным чашкам и бокалам разливают молоко. Весь персонал библиотеки пьёт его по утрам, чтобы снизить вред от смога. Мойган предложила мне свою чашку, и я выпила, осторожно наклоняя её, чтобы не касаться губами краешка. Мойган показывает мне читальные залы и хранилища. Обычно книги нужно заказывать на стойке; брать их самим запрещается. Но я иду с Мойган, и потому мне удаётся немного порыться на полках. Особенно мне нравится расстановка в отделе музыки — Бетховен, Bee Gees, Бон Джови.
Я спрашиваю Мойган, знает ли она о книгах, спрятанных или уничтоженных во время революции 1979 года. «Нет, — отвечает она, — но многие иллюстрации были удалены». Вне здания есть особое хранилище, где находятся все книги по живописи с обнажённой натурой, которые пришлось цензурировать после революции. Образы классического европейского искусства сейчас не запрещены, но экземпляры хранятся испорченными на тот случай, если политика опять поменяется. Ханжество и распутство — близкие понятия; может, это даже одно и то же.
Витрины книжных магазинов на улице Революции пестрят плакатами с гранатами, арбузами и пожеланиями счастливой Ялды. Ялда — праздник зимнего солнцестояния. Этим вечером иранские семьи собираются вместе, чтобы читать вслух и есть арбузы (символизирующие весну) и гранаты (символизирующие зиму). Традиция восходит к греческому мифу о Персефоне, но о ней тут не вспоминают. Читают, как правило, персидскую классику, скажем, любимые истории из «Шахнаме». Очень популярно гадание по газелям Хафиза.
Фирузе рассказала мне, что следует загадать желание, а затем открыть в случайном месте сборник его стихов. В особых изданиях «предсказание» (или пояснение текста для гадающего) печатается внизу страницы. Фирузе дала мне такой экземпляр, украшенный, как часто бывает, вычурными современными рисунками в духе средневековых персидских миниатюр. Я взяла его и подумала о сыне, который сейчас скучает и грустит из‑за моего отъезда. Затем открыла книгу, и Фирузе перевела мне предсказание. «Это о путешествии!» — сказала она.
Если благополучно вернусь с чужбины домой, я сделаю пожертвование. Я расскажу другим, чему научился. Я счастлив, что столько узнал в своём путешествии, что возьму всё это с собой на родину.
Вы должны увидеть стакан наполовину наполненным. Это знак счастья и благополучия. Продолжайте работу, чтобы достичь своей цели. Господь создал нас с любовью. Идите же к любви. Все люди воплощают божественную любовь до тех пор, пока мы не предстанем перед Ним. Господь создал нас с любовью, и вы должны отдавать и принимать любовь.
~
В отеле я позвонила администратору, чтобы заказать порцию рагу в номер. Объясниться оказалось нелегко, хоть я и говорила очень медленно.
— Извините, — сказал мой собеседник, — мне сложно понять вас. Ваш английский очень отличается от всего, что я слышал до сих пор. Откуда вы?
— Я англичанка, — рассмеялась я.
~
В этом путешествии мне часто приходится думать о религии, поскольку в истории библиотек повсюду наталкиваешься на следы религиозных конфликтов и преобразований.
Если бы я создавала свою религию, она была бы полна воды и прозрачной тишины. В моей религии нашлось бы место свежему, искрящемуся горному потоку и тёмной утробе хамама.

Рим и библиотека Ульпия
Я решила не брать детей в путешествие, однако не хотела полностью лишать их такого приключения. Они с мужем присоединились к той части моей библиотечной эпопеи, которую я считала самой лёгкой. Я запланировала посещение Италии на рождественские каникулы. 26 декабря я упаковала детские сумки и велела им запастись развлечениями на долгую поездку от Лендс-Энда до Рима. Поскольку в этот раз я еду не на мотоцикле, то могу взять с собой куда больше вещей.
Мы с трудом выбрались из автобуса в римскую толпу и, почти не разбирая ничего вокруг, вскарабкались по длинной каменной лестнице. Я насчитала 124 ступеньки, Орла — 119, Отис — 122. В конце нас ждала всего лишь церковь. Рельефы воинов, кардиналов и донаторов на беломраморном полу стёрлись от попиравших их веками подошв. Вокруг слишком много прекрасного. Витражные окна мягко окрашивают пол в сахарно-розовый и травянисто-зелёный. Детей привлекло огромное изображение Рождества в одной из боковых капелл. Они пробуют обмануть осветительный механизм, где опущенная в щель монетка зажигает электрическую свечу.
На Капитолийском холме мы с Энди и детьми разделяемся. Они двинулись на юг к дальнему концу Форума и Колизею, а я повернула на север, к колонне Траяна, которая и была целью моей поездки.
Колонна увековечивает победу Траяна над Дакией, ныне Румынией. Битвы детально представлены в барельефах, которые образуют спиральный фриз, идущий вокруг колонны от основания к вершине, подобно развёрнутому свитку. Когда‑то колонна стояла посередине между двумя крыльями Библиотеки Ульпия, также основанной Траяном в 112 году нашей эры. В римских библиотеках устраивали два читальных зала, для греческих и латинских текстов. Библиотечные здания к востоку и западу от колонны заодно образовывали площадки, с которых мог быть прочитан весь её фриз. И так, и эдак они предназначались для того, чтобы способствовать чтению.
Первоначально колонна стояла перед судебным зданием. Сейчас за ней живописные развалины Форума, а впереди — современный Рим, построенный поверх прочих руин. Один местный друг жаловался мне, что в столице ничего невозможно построить, поскольку на любом освобождённом от сооружений участке обнаруживаются древние памятники. Раскопки стоят так дорого и занимают так много времени, что никто не хочет связываться. Город пребывает в рабстве у собственного прошлого.
Я открыла камеру и зарядила катушку плёнки Kodak 250D. Намечалось какое‑то мероприятие для прессы, и металлические ворота, перегораживающие ступени к колонне, распахнулись. Фотокорреспонденты заметили мою кинокамеру Bolex: «Классная штука!» Они прошли в ворота. Я впала в панику. Если они поднимаются на колонну, стоит ли мне попытаться зайти с ними? Смогу ли я подойти поближе, если притворюсь журналистом? Секунда колебаний, и шанс упущен. Ворота закрываются передо мной.
Палка для селфи
Я стою на выходе из Колизея среди торговцев, продающих палки для селфи. Толпа передо мной течёт через турникеты, а я ловлю глазами своих детей. Периодически я пытаюсь заставить себя воспринимать происходящее как‑то иначе, не потому что напряжённое ожидание неприятно (хотя это так), но потому что из‑за него каждое новое лицо становится небольшим разочарованием.
Палки для селфи продаются на любой римской площади. О них невозможно не думать. И вот что думаю я: в мире селфи всё необычное и выдающееся низводится до уровня фона для великолепных нас. Именно себя мы помещаем на передний план, хотя на самом деле это самая скучная в своей повторяемости и предсказуемости часть изображения. Мы воспроизводим одни и те же выражения лиц и позы в неустанной попытке возвыситься над своим окружением. Никуда не деться от мысли, что это (как и многое другое) является жуткой инверсией нашего истинного желания раствориться в пространстве и ускользнуть от самих себя, как от тяжкого груза, который мы обречены тащить до скончания дней.
Природа селфи особенно очевидна в церкви. Храмовая архитектура предназначена для того, чтобы дать личности в трепете приблизиться к бесконечному и необъятному Богу. Но римские церкви, где я была, так же, как и прочие священные места вроде Парфенона, — все заполнены до отказа туристами, снимающими самих себя. Эта постоянная ошибка приводит меня в отчаяние. Я всегда стараюсь высматривать неизъяснимое, но с селфи это невозможно.
Когда я пишу эти строки, я остро осознаю, что они представляют мой собственный, очень личный взгляд на вещи. Я пишу из удивительнейших мест и да, по сути делаю то же самое, что все эти туристы с палками, — претендую на первый план во всех словесных и фотографических изображениях, которые создаю. Однако я упорствую в своём намерении стать чем‑то вроде объектива моей камеры, который, разумеется, целиком перекрывает картинку, но только для того, чтобы сфокусировать и кадрировать её.
Нет входа на Виллу Папирусов
В 79 году нашей эры пирокластический поток из жерла Везувия погрёб виллу Папирусов под тридцатиметровым слоем пепла. По крайней мере восемьсот свитков, найденные там в 1752 году, составляют единственное значительное библиотечное собрание эпохи античности, целиком дошедшее до наших дней. Свитки сильно обожжены, но технология спектрозональной съёмки, разработанная в 1990‑е годы, позволила их прочитать. Дальнейшие раскопки в конце XX века привели к обнаружению двух прежде неизвестных этажей виллы.
Многие месяцы я пыталась получить доступ на виллу Папирусов в Геркулануме. Мне хотелось увидеть не только пустой раскоп, но и кое‑какие из обожжённых свитков, которые были найдены в сгоревшей и засыпанной пеплом библиотеке. Сначала я обращалась в ЮНЕСКО, затем в Общество друзей Геркуланума в Оксфорде, потом в неаполитанский филиал Гёте-института, в Отдел папирусов Национальной библиотеки Неаполя и наконец, в Британскую школу в Риме. Если вы не говорите по‑итальянски, итальянские организации не станут говорить с вами. Я написала нескольким учёным, специализирующимся в папирологии. Никто не ответил.
В конечном счёте я получила ответ из отдела разрешений (permessi) Британской школы в Риме: чтобы вызволить свитки из их хранилища, необходимы особые заклинания, конкретные каталожные индексы. Я нашла интернет-каталог, однако мне ответили, что найденные мной индексы недействительны. Написав ещё множество запросов по разным адресам, я выяснила, что действительные индексы могут быть найдены только в издании 1979 года «Il Catalogo dei Papiri Ercolanesi». Экземпляр в Британской библиотеке неизменно заказан кем‑то ещё. Проверка показала, что Бодлианской библиотеке в Оксфорде, разумеется, принадлежит не менее четырёх: один в библиотеке Саклера, два других — в колледжах, и последний в основном собрании. Вернувшись на родную почву, я написала подруге, которая немедленно заказала книгу и попыталась расшифровать всё, что смогла. Её электронное письмо пришло прямо из библиотеки:
Я сижу перед книгой в Нижнем читальном зале. Хорошо ещё, что у меня какое-никакое классическое образование. Здесь всё по‑итальянски или по‑гречески. Не знаю, как правильно печатать греческие символы, поэтому буду отправлять фотографии. Один из самых важных текстов здесь — это утерянный трактат Эпикура «О природе». Нужные полки обозначены как PHerc 1042, 1056, 1148, 1151, 1191, 1385. Тут есть пометка ‘non inter, poco leggible, cattivo' — «фрагмент., нечит., в пл. сост.» Попробуй что‑нибудь из этого.
В середине книги есть фотографии манускриптов с более полными текстами. Вот их индексы — PHerc 1669, cornice 8, coll. 12—17. Это Филодем, «О риторике» (книга V?). Фрагменты странной формы PHerc. 1471, cornice 7, frr. 8—15: Филодем, «О прямодушии».
Мне было бы интересно почитать «О прямодушии», но когда я послала эти индексы, мне пришло ещё одно письмо из permessi в Британской школе в Риме:
Уважаемая Эбигейл, вчера мне позвонил сотрудник Археологической зоны Геркуланума. Интересующий вас объект теперь управляется напрямую отделом Министерства культурного наследия, и, вследствие нехватки персонала, пространства, до сих пор открытые для публики, с настоящего времени закрыты и доступны только по запросу, отправленному по крайней мере за месяц до даты предполагаемого визита. Я всё ещё жду ответа на мой запрос о доступе для вас на виллу Папирусов, однако, узнав об этих новых правилах, я опасаюсь, что у них не хватит времени для организации вашего визита. Если я напишу им снова прямо сейчас, указав интересующие вас свитки, времени будет недостаточно.
Я ответила, что запрашивала посещение ещё в июне. Две недели спустя мне пришло новое письмо, по интонации закрывавшее тему:
Уважаемая Эбигейл, я только что получил официальное письмо из Геркуланума. Доступ на виллу Папирусов в настоящий момент закрыт по соображениям безопасности. Посещения возобновятся только тогда, когда эта территория будет признана полностью безопасной. Вероятно, это произойдёт в 2017 году, однако неизвестно, когда именно в 2017 году они надеются открыть виллу для публики. Мне очень жаль.
Вот и всё. Я не смогу туда попасть. Я раздавлена. Ничего больше сделать нельзя. Я возмущена итальянским правительством, которое не проводило практически никаких работ на этом участке с тех самых пор, как библиотека была открыта в 1750‑м.
История виллы Папирусов стала первым толчком для моего путешествия по утраченным библиотекам. Я рассеянно шагала по своей студии под звуки радио и прокручивала в голове телефонный разговор с предложением подумать про какое‑нибудь путешествие. Пока я мерила шагами комнату, по радио рассказывали про то, что учёные всего мира подписали петицию, просившую итальянское правительство продолжить раскопки на вилле Папирусов. В коротком интервью с одним из авторов говорилось, что на сегодняшний день папирусы извлечены только из вестибюля и нескольких дорожных сундуков. Известно, что не раскопанными остаются ещё по крайней мере две больших библиотечных залы. В этих комнатах — предполагает учёный — непременно хранятся утраченные греческие трагедии. Есть шанс обнаружить какой‑нибудь из девяти томов поэзии Сапфо (мы знаем только один), а может, нас ждёт одна из ста двадцати пьес Софокла (нам известны только девять). Средства на полномасштабные раскопки так и не были выделены. Эту новость больше не повторяли.
В случае большинства разрушенных библиотек у нас нет ничего, кроме гипотез. Вилла Папирусов отличается от остальных тем, что нам совершенно ясно, что с ней случилось и в каком она состоянии. Это по‑настоящему невидимая библиотека. Даже уже найденные свитки по большей части не расшифрованы. Хотя новые технологии позволяют читать тексты на обугленных свитках, обладатели папирусов (главным образом Национальная библиотека в Неаполе и Институт Франции) отказываются разрешить их сканирование.

Здравствуй, Каир
В каирском аэропорту ещё даже до паспортного контроля меня перехватывает человек, чья работа заключается в том, чтобы проводить туристов сквозь неразбериху бесконечных бумаг, очередей и сканеров. Как будто мне мало этой неожиданности, служба безопасности проявляет повышенный интерес к моему «болексу» прямо на выходе из аэропорта. Это моё? Я намерена это продать? Что я собираюсь им снимать? Не журналист ли я? Я быстро отметаю последнее подозрение, сообщив, что это коллекционный киноаппарат и что снимала я в Риме. «Рим! — повторяет мой сопровождающий. — Турист!» Меня допрашивают высокие, худые и носатые мужчины в длинных шерстяных мундирах.
Внезапно они теряют ко мне интерес, и я стремительно удираю в каирскую ночь, как мышь, упущенная хищной птицей. Сотрудник, который мне помогал, сообщает агентству о моей камере, и моему гиду Далии поручено не позволять мне ею пользоваться. В каждом здании в Каире стоят сканеры, и на некоторых улицах тоже. Скрепя сердце, я кладу «болекс» на ленту при входе в отель. Не засветит ли он плёнку? Понемногу до меня доходит, что ещё до того, как я ступила на землю Египта, царящая тут атмосфера постоянного надзора из‑за террористической угрозы уже ввергла меня в состояние стресса.
Далия настаивает на осмотре камеры в уединении моего номера: «У вас нет разрешения на съёмку». — «Когда я прошу разрешения, мне всегда отказывают, поэтому я перестала спрашивать, просто снимаю». — «Вы наживёте проблем и себе, и нашему агентству». Она меня раздражает. «Ну тогда давайте расстанемся», — говорю я. Она хмурится. «Вы должны снимать на телефон». — «Но я не хочу. Эта камера сопровождала меня всю поездку — и это последний этап моего пути. Почему здесь должно быть иначе?» Мы не можем договориться. «Послушайте, давайте продолжим этот разговор завтра». Уходя, Далия говорит: «Не пейте здешнюю воду. Мне‑то ничего, но вам от неё будет плохо».
Военная полиция
В момент моего ареста я снимаю табличку на стене у входа в институт. Я снимаю табличку потому, что это фактически всё, что осталось от библиотеки. Я нашла это здание накануне. Его легко было узнать по фотографиям 2011 года, на которых обугленные останки книг передают сквозь решётки окон нижнего этажа и раскладывают на улице. Далия настаивала, чтобы я не снимала ни при каких обстоятельствах, и мне пришлось прибегнуть к уловке. Около полудня я сказала ей, что устала и намерена провести остаток дня в отеле. Как только она ушла, я зарядила плёнку в камеру и уложила её в полотняную сумку через плечо.
Меня задерживают трое мужчин. Первый, в белом костюме, фотографирует, как я снимаю длинный бетонный забор. Это грузный мускулистый человек устрашающе-скользкого вида. Я занервничала, когда он нацелил на меня свой телефон, но решила не обращать внимания: за сорок минут, которые я провела здесь с киноаппаратом, мне уже приходилось не обращать внимания то на мужчин, которые пытались заговорить со мной, то на детей, которые пытались продать мне одноразовые салфетки и воду.
Снимать табличку с названием института было ошибкой. Как только я подношу камеру к лицу, вооружённый охранник в военной форме кричит на меня и жестами показывает подойти. Он лениво поигрывает оружием, опустив его дулом вниз, и попеременно то курит, то разговаривает по мобильному. Когда я подхожу, ко мне подбегает низенький мужчина в коричневом костюме с прилизанными волосами. Он отбирает у меня «болекс» и пролаивает несколько слов. Я не понимаю, и он бежит обратно, жестами показывая, чтобы я за ним следовала. Мы проходим человека в белом, который пристально и угрожающе на меня смотрит.
Я иду за коричневым костюмом сквозь арочный проём, у которого стоят охранники и немецкие овчарки. Мы заходим в здание, пересекаем внутренний двор и проходим сквозь ещё одни ворота, на это раз закрытые. Здесь нас встречают другие охранники в чёрной форме и белых фуражках. Никто не знает ни слова по‑английски, за исключением слова «passport». Однако паспорта у меня нет. «Он остался в сейфе в отеле», — говорю я одному из них. Человека в коричневом костюме очень беспокоит моя камера. Он жестом подзывает людей в форме и ещё каких‑то мужчин в длинных пальто из верблюжьей шерсти, чтобы они посмотрели на «болекс» в руках у коричневого. Трое вооружённых охранников сопровождают меня в просторную комнату по другую сторону двора. Разумеется, здесь тоже есть рамки металлоискателей и сканеры для сумок. Мою сумку просвечивают, обнаруживая экспонометр, бутылку воды и немного наличных.
Мне приказано сидеть смирно на засаленном диване. Я с тревогой смотрю, как мой «болекс» передают из рук в руки. Хорошо, что хоть из комнаты не выносят. О нём и обо мне сделано уже немало звонков. Сопровождавшие меня военные стоят практически у меня на ногах, пока остальные изучают аппарат. Чувство страха нарастает. Я принимаю решение, что начну паниковать, только если меня поместят в комнату без окон.
Ещё больше звонков. Со стороны внутреннего двора заходит полный мужчина в чёрной кожаной куртке и светлых джинсах, моложе остальных. Он говорит по‑английски. Я прошу прощения за то, что стала причиной всей этой суеты. Он требует мой паспорт. Я объясняю, что паспорт в отеле. Я рада, что он остался в сейфе в моей комнате. Если они его конфискуют, у меня начнутся настоящие проблемы. Я вываливаю на диван содержимое сумки, показывая, что никаких документов там нет. Теперь я волнуюсь, что меня повезут за ними в отель. А что, если они увидят все штампы в моём паспорте? Визы Китая, Узбекистана, Ирана и так далее. Будет непросто всё это объяснить.
Внезапно что‑то меняется. Вооружённые охранники перестают висеть надо мной и отходят. Англоговорящий офицер (если он был офицером) пишет моё имя шариковой ручкой на листке бумаги. Он не просит, чтобы я произнесла его по буквам. По обоим признакам я понимаю, что худшее позади. Меня спрашивают, где я остановилась, и о моём гражданстве. Каждый ответ провоцирует ещё больше звонков. Всё новые сотрудники входят и выходят из здания.
«Можете идти», — внезапно говорит кожаный пиджак. Я осторожно касаюсь своей камеры, лежащей рядом. «Забирайте это с собой, — говорит он, — и будьте поосторожнее».
Это конец пути
Наконец я добралась до самой великой из всех утраченных библиотек. От неё не осталось ничего; неизвестно даже, где точно она находилась. Древняя Александрийская библиотека стояла так близко к порту, что когда египетские корабли сражались с римскими в 48 году до нашей эры, огонь перекинулся на здание и потрясающая коллекция из семисот тысяч свитков была уничтожена.
Сегодня на берегу моря построена новая, вторая Александрийская библиотека. Я оплачиваю экскурсию, потому что это единственный способ туда попасть. Я даже не надеюсь пронести с собой камеру, не говоря уже о том, чтобы снимать внутри. Когда библиотека только открылась, ограждений не было. Судя по фотографиям, к ней можно было подойти со всех сторон. Теперь со стороны моря она огорожена зелёным металлическим забором, а все подходы к ней перекрыты, за исключением одного — с непременными рамками металлоискателей и лентой для сумок.
Изящную архитектуру главного читального зала можно назвать неомодернизмом. Я вспоминаю работы Арне Якобсена, хотя стеклянный потолок явно не удался, особенно пересекающие его световые полосы кричащих синего и зелёного цветов. Нам рассказывают, что этот читальный зал — самый большой в мире. Я злюсь, поскольку это может быть правдой, только если читальный зал непременно должен располагаться на одном этаже. Публичная библиотека Сиэтла, Бодлианская и Британская библиотеки явно вмещают куда больше читателей, чем эта. Нам также сообщают, что углубления в стенах отсылают к полкам, на которых в сгоревшей библиотеке хранились папирусные свитки. Это злит меня ещё больше, поскольку свитки хранились не на полках, а в ячейках.
Я уточняю, могу ли вернуться вечером, чтобы увидеть библиотеку после заката. Мне сообщают, что она работает только до шести. Я привыкла к библиотекам — и великим библиотекам! — которые открыты с раннего утра и до самой ночи. Я привыкла, что могу заказать двадцать книг одновременно. Я привыкла читать оригиналы, а не цифровые копии. Я могу зайти в Читальный зал герцога Хамфри, взять книгу, изданную в 1450 году, и спокойно почитать её за столом, залитым естественным светом. Вот это и правда великая библиотека.
Чуть позже я сижу на камне, глядя на Средиземное море. Солнце заходит, а у меня ужасное настроение. Даже море не может ободрить меня, хотя и пытается — рассыпая брызги над волнорезами и играя закатными лучами. Мне не нравится так называемое воссоздание Александрийской библиотеки. Подделке я бы предпочла пустоту.
Я сижу на скалистом берегу, рассматривая рыбаков. Позади меня пустыня. Я здесь не одна. Влюблённая пара устроила пикник на волнорезе, их головы почти соприкасаются. Стайка школьниц делится йогуртом с бродячими кошками. Подростки карабкаются на камни и красуются друг перед другом. Где‑то близко грохочет автомагистраль. Кто‑то делает селфи. Рядом со мной лежит мой «болекс». Я не могу снять новую библиотеку, и никто не может сказать мне, где была старая, — только то, что она находилась совсем близко к порту. Может, мне стоит пойти в порт и поснимать там море?
На меня накатывает чувство бессмысленности всего, что я делаю. Я решаю снимать море с той точки, где сижу, вместо того чтобы форсировать шоссе и бегать от полиции. Такой точности вполне достаточно. Настало время вернуться домой.
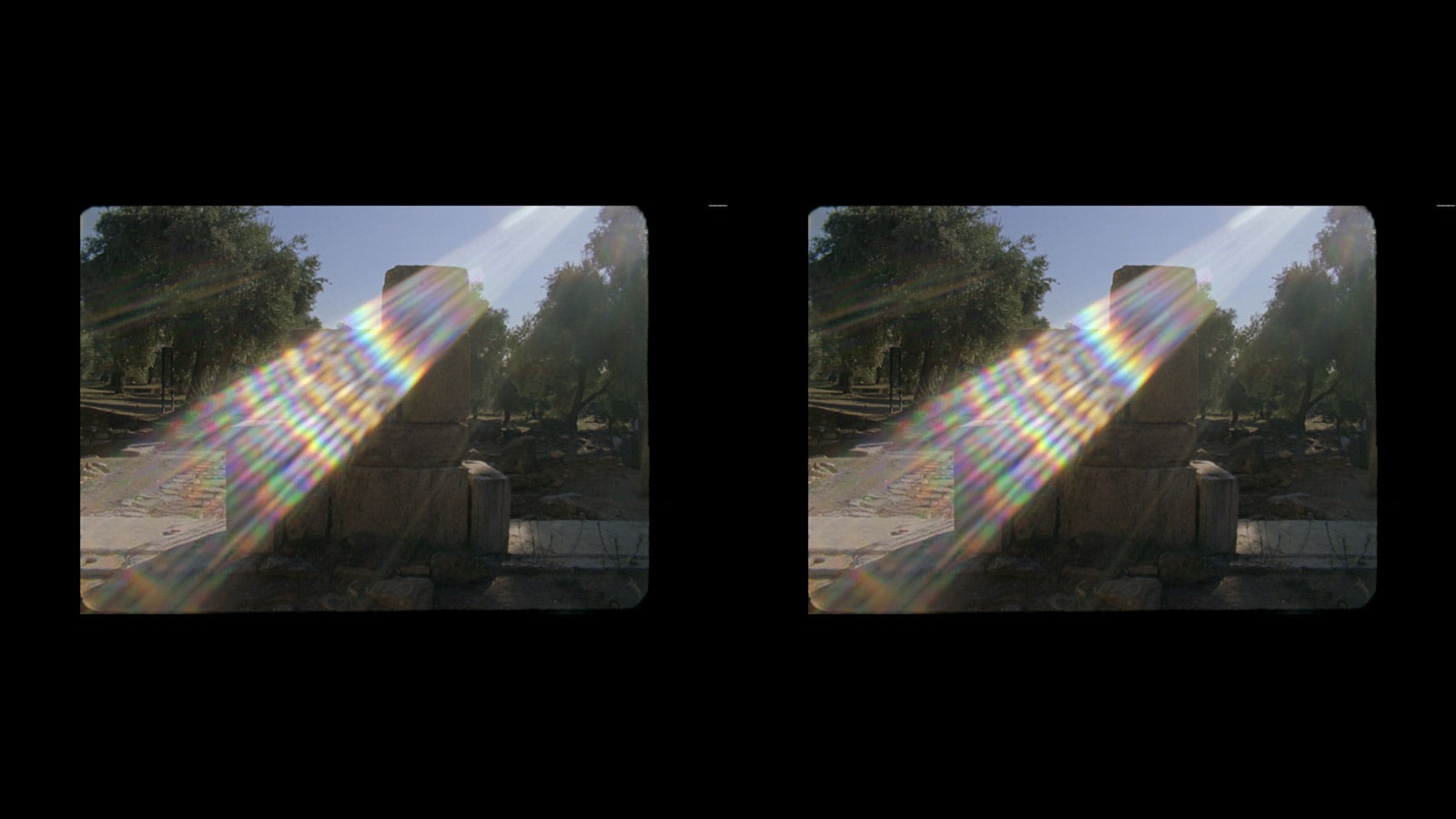
Дома
Теперь, когда завершилась материальная часть моего путешествия, я снова вспоминаю свою переписку с оксфордским профессором Питером Франкопаном, автором книги «Шёлковый путь. Дорога тканей, рабов, идей и религий». Прямо перед отъездом в Китай я попросила его помочь мне с доступом к утраченным библиотекам и со съёмками на шестнадцатимиллиметровую камеру:
Боюсь, это окажется непростой задачей, поскольку я не учёный, представляющий какую‑либо научную организацию, и мне будет сложно объяснить свой интерес тем, кто будет принимать решения. Я бы хотела найти в тех местах по‑настоящему интересных людей, которые захотят и смогут открыть их для меня в прямом и в переносном смыслах. Не могли бы вы мне в этом помочь?
Вот фрагмент его пришедшего почти сразу ответного письма:
Дорогая Эбигейл,
Боюсь, что в этих местах не всё так просто, как кажется; интересные люди, готовые вам помочь, и тем более облечённые властью, — это скорее исключение. В Китае и Центральной Азии очень тщательно контролируют любые попытки вторгнуться в их прошлое. На мой взгляд, очень важно это осознавать и реалистично оценивать, что возможно, а что нет. Как вы, наверное, читали в моей книге, к чужестранцам относятся с подозрением, причём часто не без оснований. Экскурсоводы чаще всего действуют строго по инструкциям, и вы можете столкнуться с сопротивлением и даже враждебностью, если будете слишком настойчивы.
Советую вам действовать по обстоятельствам, выяснять на месте, как всё работает, и стараться выстраивать личные отношения с теми, с кем вы столкнётесь. Если люди начнут вам доверять, они будут вести себя более открыто и, возможно, воспользуются своими связями, чтобы вам помочь.
Боюсь, что волшебной палочки, которая откроет вам доступ к сокровищам, не существует. В этой части света всё делается по старинке: вы завоёвываете доверие, и двери открываются. Как вы понимаете, это требует времени.
С наилучшими пожеланиями,
Питер
Питер явно намекал, что мне следует смириться с собственной наивностью и внимательно смотреть по сторонам, надеясь на лучшее. В нестабильной политической обстановке всё меняется почти мгновенно. Удача может зависеть от случая. Я знала, что мне придётся отказаться от многих моих ожиданий, но не от всех же. Я пустилась на поиски того, чего больше не существовало, и в отсутствие чётких целей мне нельзя было задавать своему путешествию жёсткие рамки.
К чему я в итоге стремилась? Моё путешествие было светским паломничеством, способом двинуться навстречу тому, что наполнит мою жизнь смыслом. Я хотела бросить себя в огромный мир и посмотреть, чего я стою.
В Китае я пыталась не сосредотачиваться на негативных последствиях культурной революции. В Египте — не думать о статистике женских обрезаний. В Иране я не слишком аккуратно носила платок и забывала, что нельзя смотреть мужчинам в глаза и протягивать им руку при встрече или прощании.
В Европе тоже много устаревших общественных норм, однако тут я чувствую определённую свободу выбора. Мои поступки определяет моя собственная идентичность, которая состоит из привязанности к одним вещам и отвращения к другим. Я живу возле океана, который дарит мне веру в собственные силы, чувство, что я творец своей судьбы. Каждый день я ловлю глазами суровый взгляд Атлантики. Но и библиотеки стали для меня чем‑то вроде глаз, которыми я смотрю вокруг. Используя их в качестве объектива, я обнаруживаю, что восприятие может притупляться. Мы привыкли к стабильности мирного времени и к многогранности свободы. Мы растрачиваем наши силы на ерунду и по рассеянности позволяем утекать сквозь пальцы ценностям, за которые боролись многие поколения.





