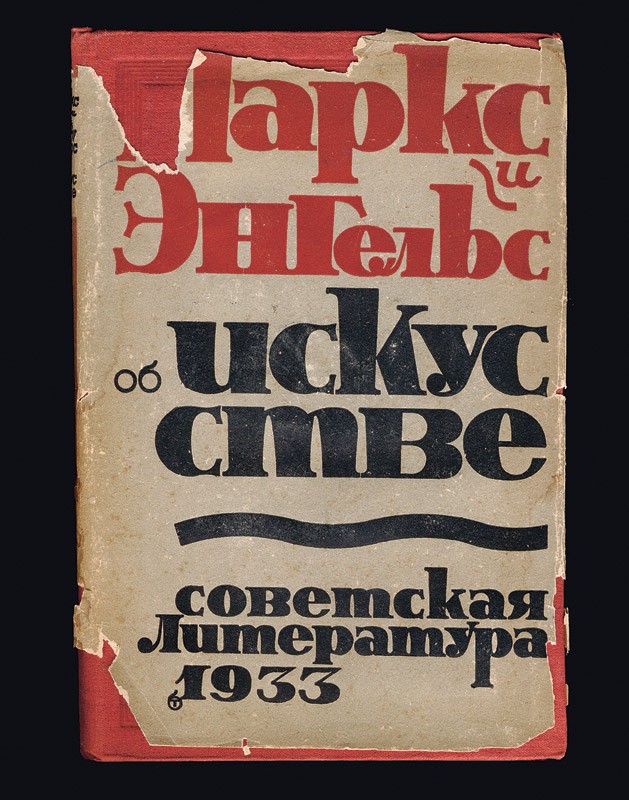Художник Иван Новиков о выставке «Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии»
Мы давно обнаружили, что арт-критики часто пишут нейтральные статьи и предпочитают обтекаемые предложения. А художники смело хвалят и критикуют, а ещё они зачастую видят то, что ускользает от других зрителей. Мы попросили художника Ивана Новикова поделиться своими впечатлениями о выставке российского и немецкого романтизма в Третьяковской галерее, тем более что его собственные работы непосредственно затрагивают важнейшие для анализа периода темы.
Что: Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии
Где: Новая Третьяковка, Москва, 23 апреля 2021 — 8 августа 2021

Сама идея показать вместе немецкий и российский романтизм мне кажется отличной, и сопоставление Венецианова и Фридриха выглядит очень интересно и убедительно. Однако важно помнить, что этот выставочный проект реализован в рамках года Германии в России, и он мне представляется эрзацем больших выставок современного искусства, которые должны были бы состояться в этого году.
Сравнение российского и саксонского романтизма — это хорошо, но почему‑то из него выпала важнейшая часть тем и сюжетов, даже фигур. Даже если мы не берём французских авторов, мы не можем не понимать, что романтизм вырос из национальных и политических идей Французской революции. А у нас вся общественная составляющая представлена на выставке лишь дипломатичными упоминаниями. Например, тема декабристов исключительно важна для российского романтизма, декабристы — это идеальные романтические герои, но этот сюжет совершенно не раскрыт. На выставке действительно есть работа по теме, там изображены армейские полки, встающие на защиту Николая I именно от декабристов. Этот выбор интересен, но не передаёт идею или даже выворачивает её наизнанку.
Выставка прекрасно подготовлена с точки зрения исторического контекста, она включает яркие работы из Дрезденской галереи и наших собраний, но я вижу как будто тяжёлый сапог на горле кураторов, который не даёт им в этой выставке дышать. Тема национальных государств и подъёма национального чувства, которая возникает в эпоху романтизма и связана с Наполеоном, вроде бы и упомянута, но в такой вегетарианской форме, что её будто бы и нет. Вроде бы есть раздел про Родину, но она предстаёт набором лирических пейзажей безо всякой социальной составляющей. Все революции и баррикады этой эпохи выглядят как нечто на заднем плане, чему легко положить конец, призвав полки Николая I. Зрителю может даже показаться, что выставка и есть про природу или даже про эскапизм, поскольку кто‑то бежал в Италию, Венецианов и Сорока — в деревню, но где подоплёка того, почему им понадобилось куда‑то бежать? Где история становления художника Сороки, что он за фигура, почему он покончил с собой? А ведь все эти частные обстоятельства напрямую связаны с темой романтического гения, которая на выставке свелась к набору природных красот. Вроде бы кураторы и понимают, что всё это важные вещи, о которых необходимо сказать, но они говорят это мягко, беззубо и боязливо. Больше всего меня поразил раздел «Невозможность свободы» — мне кажется, его пафос не совсем исторически корректен. Декабристы, французские революционеры, весна народов — это как раз демонстрация возможности свободы. Конечно, в итоге романтизм пришёл к краху, ну так и любое направление рано или поздно себя исчерпывает, зато будучи на подъёме, он как раз отмечал торжество свободы.
Помните, в 2015 году в Манеже проходила выставка «Романтический реализм»? Её куратор Зельфира Трегулова, безусловно, крупный специалист в том числе по соцреализму, но всех тогда поразило, что самые кондовые его произведения были показаны как романтические воспоминания художников о родной природе и счастливом детстве в деревне. Те же чувства я испытал на нынешней выставке, как будто мне показали кастрированный декоративный романтизм, или даже романтизм, у которого вырвали сердце. В экспозиции много замечательных историографических находок, пластических сопоставлений — это действительно интересно, но на другом уровне.

Конечно, обращает на себя внимание архитектура выставки, и я с большим уважением отношусь к сотрудникам галереи, которые работают в непростых финансовых условиях, но у вас ведь крыша протекает в выставочных залах во время дождя, а вы заказываете архитектуру Либескинду! Я понимаю, что нужно пустить пыль в глаза, но это же абсурд! Более того, это ведь попытка необычной дорогой архитектурой прикрыть слабые места выставки, дыры в кураторском нарративе. Например, в прошлом году на выставке «Ненавсегда» тоже вообще‑то была неплохая архитектура, не такая вычурная, сделанная силами отечественных авторов, но выглядело это ничуть не хуже. У Либескинда получилась интересная инсталляция, но она неуместно выглядит в контексте этой выставки, она не родная для этого способа экспонирования работ: повесить ровно работы на стеночках — это консервативный музейный ход, и то, что стеночка завивается спиралью, не делает его прогрессивным. Для меня эта архитектура существует совершенно отдельно от работ — как будто в борщ добавили маракуйю! Но их гораздо вкуснее есть по отдельности. То есть лучше, если бы при такой спокойной консервативной развеске оставили бы спокойные стены.
И совершенно отдельным хвостом тянутся прицепленные к выставке работы современных художников. Посмотрев на список участников, ты думаешь, что тебя ждёт супервыставка, а вживую оказывается, что они механически пристёгнуты к основному корпусу для его осовременивания. Понятно, что этот ход часто используют именно консервативные музеи классического искусства, но здесь‑то стояла задача показать, что романтизм живее всех живых, что он современнее, чем мы думаем. Мне очень приятно было лишний раз увидеть перформанс Андрея Кузькина «По кругу» — прекрасная работа, но неужели они себе правда представляют этого художника последним романтиком русского искусства? Неочевидные и неубедительные выставочные решения продиктованы, скорее всего, искренним желанием сделать выставку современной в условиях, когда вас заставляют все современные реалии вымарывать, — вот моё ощущение.
При этом то, что романтизм живее всех живых, — это абсолютно искусственная идея, и её поэтому нельзя убедительно показать. Романтизм — замечательное гнёздышко, из которого выросли национал-социализм и концлагеря, но одновременно идея свободы и силы вдохновения. В этом смысле мне кажется попросту опасным говорить, что сегодня мы живём в эпоху нового романтизма. Знаю, что некоторые из моих коллег размышляют о том, что значит романтизм сегодня, но я не представляю ни одного куратора или художника, которые на полном серьёзе сказали бы, что идеи романтизма сегодня релевантны. Возможно, попытка осовременить это направление была бы интереснее, если бы они нарочито показали абсурдность этого жеста, вытащили бы оттуда вещи, которые могли бы дать что‑то нам сегодняшним, открыли бы что‑то в нас самих. А они делают акцент на декоративной, может быть, экзистенциальной части романтизма, от которой вторая половина ХХ века пыталась отойти как можно дальше. На выставке мы как будто забыли о целом пласте критики модерности нового времени, института национальных государств — как будто ХХ века вообще не было. Наверное, я говорю об этом так горячо, потому что всё это как раз моя тема! Я всё никак не могу понять, как мне говорить про эту выставку, притом что в целом она мне нравится, мне нравится, какие темы люди затронули, каких авторов и какие работы показали, но меня так много всего в ней раздражает! Даже её пафосное называние звучит довольно странно в отечественном контексте.

Интересно сравнить выставку в Третьяковке и проект-посвящение «Современнику» в Музее современного искусства. В них много сходного — большой бюджет, большая идея, обе эти выставки с большими нарративами. Первая — важный межгосударственный проект, вторая показывает культуру оттепели через призму театра и сам театр как важнейшее культурное явление. Но выставка Ани Арутюнян и Андрея Егорова показывает современных художников, потому что театр был про современность, про правду жизни. А как показать людей, погружённых в актуальность, посредством архивных материалов? Эту тему отыгрывают нынешние художники, которые делают специальные работы под заказ. В случае Третьяковки все современные работы были взяты готовыми, и на кураторов, кажется, надавили, заставили подумерить свой пыл, в то время как в ММСИ им явно дали отмашку сделать крутую выставку. Бюджет романтизма, очевидно, переправили на Либескинда, а могли на современных художников или на расширенную научную работу и на более вдумчивую контекстуализацию имеющихся работ. В итоге все хорошие начинания останавливаются на полпути и осовременивание происходит не на концептуальном уровне, а за счёт художников, Хито Штерль, Пригова, Сьюзен Филипс, которых никак плохими не назовёшь, их всегда интересно посмотреть, но в неуместном сочетании они выглядят странно, а их связь — чисто пластической и формальной. На выставке «Современник. Начало», при всём том, что я не люблю театр, тебе глубоко показывают контекст времени, в частности, антисемитские настроения, из‑за которых запрещают спектакль «Матросская тишина», сложные реалии послевоенного периода, — и даже мне становится интересно. И инсталляции современных художников играют роль дополнительных инструментов контекстуализации. Вроде бы кураторы «Романтизма» хотели добиться того же самого, но получился механически пристёгнутый хвост. Понятно, что Третьяковка музей, рассчитанный на массовую аудиторию, что вроде бы это объясняет поверхностность подхода, нежелание уходить в глубину, но ведь у неё были по‑настоящему глубокие проекты. Прошлым летом все обсуждали «Ненавсегда» — эта выставка будоражила умы, она была уместна и в поп-режиме, и там было о чём поговорить сообществу. Можно обсуждать кураторское видение Кирилла Светлякова, но то, что его проекты работают и на широкую, и на профессиональную публику, неоспоримо. Была выставка Гелия Коржева, там Евгений и Кирилл Ассы предложили вычурную архитектуру, в чём‑то схожую с проектом Либескинда, с вырезами и просветами в стенах, но и там Коржева можно было читать на нескольких сложных уровнях. Так что дело не в политике галереи, думаю, что это вопрос какого‑то системного давления в нынешних условиях.

Я закончил Суриковский институт и хорошо знаю, что его студенты и преподаватели до сих пор ходят на выставки смотреть, как старые мастера работали с кистью, хотя сегодня это уже странный подход. И Третьяковка часто применяет экспозиционные ходы, позволяющие зрителю в том числе понюхать поверхность холста. Но сегодня интереснее смотреть концептуальные подходы художников, и их можно смотреть у классиков; честно говоря, я фанат Сороки и Венецианова, и у меня нет никаких сомнений, что они оба могут рассказать концептуально интересные вещи о российской истории, об отечественном культурном контексте, мы их недосмотрели и недоизучали, для меня они очень важны и интересны, но эти вещи нужно вытаскивать, потому что профессиональная публика придёт и будет морщить нос из‑за недостаточной проработанности концепции, а массовый зритель её просто не увидит и не прочитает, а будет смотреть, какая красивая у Александра Иванова Италия и как лихо она написана, не видя весь набор проблем, из‑за которых российские художники бежали за рубеж, умудрялись многие годы жить там на деньги Академии художеств и оставались и воспринимались по‑прежнему русскими художниками. Это совершенно сегодняшняя проблема, и вот таких параллелей мне не хватало.