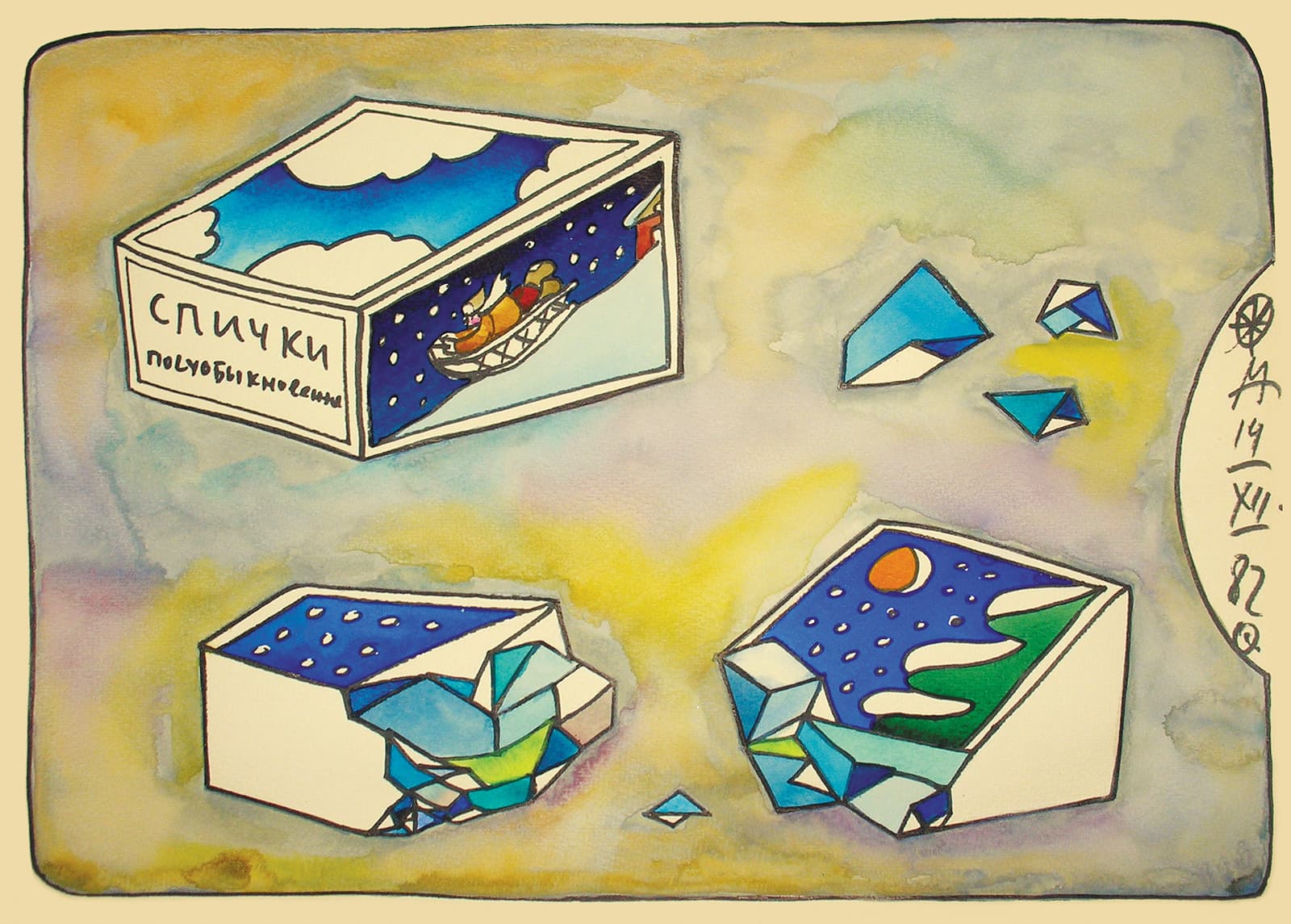Алексей Каменский: «Вопрос характера»
Алексей Каменский, сын поэта-футуриста Василия Каменского, всегда «хотел быть свободным» — возможно, поэтому с 1961‑го по 1973‑й для него были закрыты официальные выставки. Разумеется, Каменский продолжал работать — в стол, и показывать свои вещи — на квартирниках. И хотя в последние годы были организованы выставки, изданы каталоги, его эксперименты и открытия по‑прежнему остаются достоянием узкого круга знатоков и ценителей

При Сталине было противно, хотя есть люди, которые так не считают. Да, самоощущение связано с политической жизнью. При Сталине все боялись, потом Хрущёв всё‑таки сделал, по‑моему, большое дело.
Это нормально воспринималось. Хрущёв ведь ничего не знал и не понимал, потому и вёл себя так. Но всё же он сделал большое дело. После этой истории художники разделились — одни стали стремиться заработать деньги, а другие хотели всё‑таки быть свободными.
Ну, конечно, разделялись. Я помню это время — как раз заканчивал Суриковский институт, который я немножко терпеть не могу. Да, и там люди пошли по разным дорогам, как я уже сказал: одни — по пути заработка, другие — по пути отъединения. И я — по второму пути.
Мой знакомый Вася Митурич, сын Петра Митурича, спросил меня однажды, на что я живу. А я отвечаю: «Меня мама кормит». Так и было, мне был 31 год. Он предложил устроить меня в Заочный народный университет искусств (ЗНУИ). Я туда пришёл, и сначала мне было даже интересно. Там развивалась такая линия примитивизма. У меня даже остался, может, где‑то такой рисунок от ученика: горка, а на ней человек стоит, и название «Автопортрет на куче навоза». В общем, там можно было так развлекаться. Это были хрущёвские, даже брежневские уже времена — разницы нет — там было настроение, которое можно было использовать очень ценно. Давали деньги и говорили: «Поезжай, будешь учить самодеятельных художников на Волге». Заниматься с этими самодеятельными художниками из провинции было иногда и забавно, и познавательно, они рассказывали про себя истории — один на подводной лодке плавал, другой хотел быть генералом…

Получается, что так.
Само устройство полухудожественного мира было очень удобно — отправляли в поездки. Я был на Кавказе, в Баку, а по пути я ехал через чеченцев, там можно было много всего увидеть.
Наверное. Определённые интересы легко ведь различить…
Понимаете, если есть два художника, и они относятся ко мне хорошо, для меня это уже признание. Мне не надо больше, не надо, чтобы Брежнев ко мне приходил и хлопал меня по плечу. Признание друзей… Это уже психология, это к искусству не относится. Да. Но когда хвалит дурачок, неинтересно.
Это очень лично. Просто так похвала мне неважна.
Можно было участвовать в квартирных выставках. Одна такая даже у меня в мастерской на бывшей улице Чернышевского прошла.
У меня было много друзей, фамилий много можно назвать. Большое влияние — и как художник, и как человек — на меня оказал Михаил Рудаков. А среди друзей — Семёнов-Амурский, Егоршина, Андронов, Злотников, Игорь Попов, Рабин, Виктор Попков, Карл Фридман, Илларион Голицын, Слепышев, Крунов, Слава Ратнер и Джаид Джемаль… Какое‑то время — Вейсберг. Но я не стал с ним общаться, потому что он только о себе думал, это скучно и неприятно. Художественная среда — не цельная, не монолит, а вся по частям, она меняется, художники ссорятся. В конце концов художник всё‑таки сам себя делает. Найти удачную компанию, конечно, нужно и важно, но не она определяет художника.
Вейсберг звонит, просит прийти и посмотреть работу, а когда приходишь — то в ванную ему нужно, то ещё что‑то. И я чувствую, плевать ему на меня и на моё мнение о его работах. Я перестал им интересоваться. Самая неприятная обида — от друзей
Не то чтобы ссорились, но обидно бывало: он звонит, просит прийти и посмотреть работу, а когда приходишь — то в ванную ему нужно, то ещё что‑то. И я чувствую, плевать ему не то что на меня, а даже на моё мнение о его работах. Я перестал им интересоваться. Самая неприятная обида — не от правителей, а от друзей. Но с другой стороны, он был человеком с необычным восприятием мира, и этим, наверное, многое объясняется. Иногда я видел, как он, начиная работать, нарезал мелкие кусочки бумаги одинакового размера и нанизывал их на проволоку. И потом, когда писал, вытирал кисти об эти листочки и выбрасывал их.

Сначала как‑то скептически. Непонятно было, как и чему там учат, жёсткая система… А потом выяснилось, что у него, в общем, всё свободно — развивайся и рисуй, как хочешь.
Абстракция была модной, да. До конца её понять и объяснить сложно, но именно в абстракции личность художника проявляется больше всего. Вот была выставка Злотникова в Московском музее современного искусства — что‑то мне очень нравилось, а насчёт чего‑то другого я ему возражал. Но он показывает там себя. Он вообще очень одарённый человек, портреты хорошо очень пишет, «сигнальные системы» он, философствуя, писал, а потом, как мне показалось, стал писать, исходя из того, что он — Злотников. Вот так он натюрморт сделает, так пейзаж или портрет.
Это другой путь. У меня характер такой, что хотелось иначе писать. К тому же я знал мировую художественную жизнь. Да, и у нас что‑то такое начинало созревать. Уже была группа — по всей Москве, и по всему Союзу, и во Франции уже такая живопись развивалась…
Изначально — ещё из художественной школы, где можно было иметь своё мнение. Я всегда рассказываю, какой у меня там был счастливый месяц. Я заболел и месяц был дома. Я читал книги, много начитал, и когда вернулся в школу, был уже какой‑то другой. У других всё могло быть иначе — всё от личности зависит.
Так часто происходит. По разным причинам: у одного нет достаточных данных, другой раздваивается.
Рабин неплохой, но идти рядом с ним мне не захотелось. Почему? Мне неинтересно жаловаться, что плохо живём. Можно жить в очень плохих условиях, но в душе возвышаться
Рабин неплохой, но идти рядом с ним мне не захотелось. Почему? Мне неинтересно рассказывать анекдоты какие‑то или жаловаться, что плохо живём. Почему это надо в живописи делать? Можно жить в очень плохих условиях, но в душе возвышаться, поэтому, пожалуй, Рабин мне не подходит. А кто там ещё? Который делает одно и то же — рожи — Целков. Вот, он нашёл что‑то и всё время повторяет… Это неприятно, хотя, может, и сделано хорошо.

Да, и кроме того, он сразу получил и деньги, и отзыв.
Нет, не мешают.
А это совсем разные вещи. Когда смотришь живопись, это учёба, проход в область изображения. А когда по улице идёшь, там всех разное впечатляет.
Я всё время делаю рисунки. Вот, например, работа «Закат в горах». Солнце посылало луч, сзади были горы… Я стал обобщать, мне показалось, самое главное тут — солнце и луч. А потом, без моего ведома, смотрю, появилась такая штука, линия на красном фоне, — и получился «Закат в горах».
И новое делал, и просто работал.
Ну, это психология… Вопрос характера.