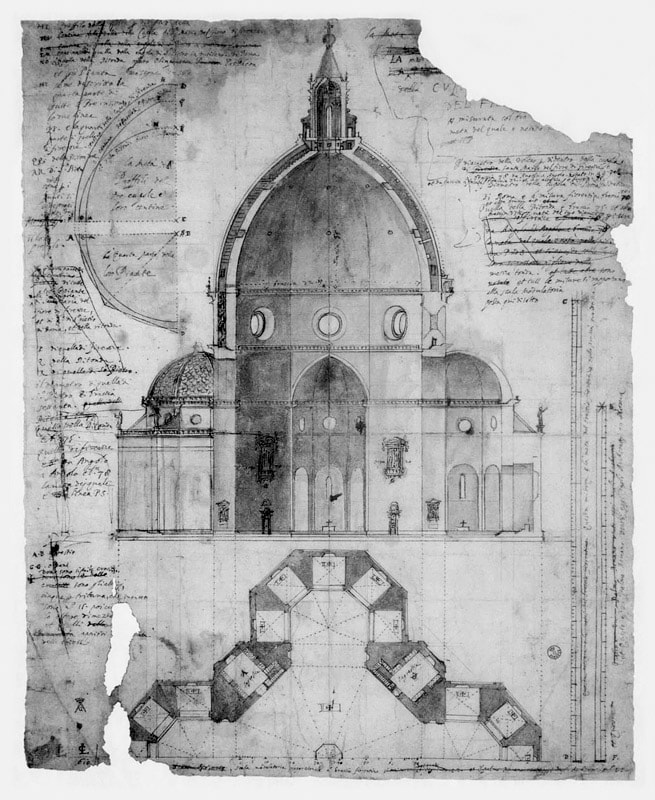Джеймс Элкинс: «Я знаю, кто виноват»
Профессор Чикагского института искусств Джеймс Элкинс — специалист по искусству Возрождения, однако его перу принадлежит целый ряд книг на темы, слегка сомнительные с точки зрения серьёзного искусствоведения: о людях, которые плачут перед картинами; о странном месте религии в современном искусстве; о крахе, который переживает арт-критика. По этим работам искусствоведы могут научиться не сдерживать слёзы, глядя на произведения искусства, арт-критики — быть простоватыми и наивными, а пришедшие в музей зрители — смотреть исключительно на трещины в красочном слое

На самом деле к написанию этой работы меня подтолкнул случай с моей студенткой, которая навзрыд расплакалась на выставке немецких романтиков в Чикагском институте искусств. У неё кружилась голова, кололо сердце, пол шатался под её ногами, но, мало того, она ещё и поставила себя в неловкое положение, рассказав об этом в аудитории, где мы обсуждали эмоциональную реакцию на произведения искусства. Она практически исповедалась перед однокурсниками, а те её жестоко осудили, посчитав наивной дурочкой, неспособной стать серьёзным историком. «Как вообще можно любить живопись? — сказал один из них. — Картины — это интеллектуальные произведения. Любовь к ним ненормальна». Я рассказал об этом случае своим коллегам, но они отреагировали точно так же: назвали студентку плаксивой сентиментальной девицей, а её реакцию — неподобающей. Вначале я соглашался с ними, но потом задумался: живопись призвана вызывать сильные эмоции, почему же испытывать их на самом деле — стыдно? Вот я и написал книгу, отстаивающую право искусствоведа говорить серьёзно о сильных эмоциях, которые вызывает живопись.
Чем известнее искусствовед, тем выше вероятность того, что он никогда не плакал перед картинами. Могу сделать вывод, что отсутствие каких‑либо эмоций — верный признак хорошей школы
Почти все крайне отрицательно. Очень немногие признались, что моя книга им понравилась. В процессе работы я написал тридцати или сорока известным искусствоведам, спросив у них, плакали ли они когда‑нибудь, стоя перед произведениями искусства. Мне хотелось выяснить, есть ли какая‑нибудь корреляция между высоким уровнем понимания истории искусства и эмоциональным откликом на него. Ответы большинства из них были весьма недвусмысленны: всхлипы и вздохи — нечто, находящееся далеко за пределами нашей профессии. Более того, чем известнее специалист, тем выше оказалась вероятность того, что он никогда не плакал перед картинами. Могу сделать вывод, что отсутствие каких‑либо эмоций — верный признак хорошей школы. Лишь двое из моих респондентов разрешили мне упомянуть в публикации свои имена. Даже в тех случаях, когда мне писали, что мои идеи целиком и полностью ошибочны, что мне не стоило браться за эту тему, они всё равно не разрешали указывать, чьи это слова. Мне это напоминает ситуацию с раковой опухолью — все всегда стараются отстраниться от этой темы как можно дальше, не соприкасаться с ней, пока возможно. Единственный, кто написал серьёзную рецензию на мой труд, — профессор культурологии из Кембриджа Питер де Болла. Его мнение очень близко к современной теории аффектов. Он посчитал, что мне не нужно было заниматься слезами как таковыми — они ненадёжный признак эмоционального возбуждения. Хотя «смятение чувств» в соприкосновении с произведениями искусства и важно, писал он, мне следовало ограничить область своего интереса эмоциональными конструктами и их отображениями в дискурсе истории искусства. То есть мне предлагалось сделать что‑то в духе Мишеля Фуко — проанализировать не эмоциональную реакцию, а обсуждение эмоциональной реакции на искусство. И хотя сегодня теорию аффектов обсуждают абсолютно все, они обращаются не к эмоциям живых людей, а к описаниям этих эмоций. Полагаю, именно поэтому моей книги нет в библиографиях по теории аффектов.

Если вы говорите, что в постструктурализме разрешены эмоции, то вообще‑то они разрешены последние лет пять-десять, не больше. Поначалу его просто демонизировали, ранние его формы с 1960‑х по 1980‑е обвиняли буквально во всех грехах: в чрезмерной интеллектуальности, в холодности, которые возникли как реакция на модернизм. Это что касается восприятия постструктурализма. Если вспомнить 1970‑е, станет ясно, какой гигантский объём работы потребовался таким людям, как, например, художнице и теоретику Мэри Келли, чтобы систематизировать, классифицировать и определить эмоции, чтобы узаконить их существование у исследователя.
Так что я разделяю последние сорок-пятьдесят лет на несколько периодов с точки зрения принятия эмоций в гуманитарной сфере: 1970‑е и 1980‑е прошли под знаком феминистского искусствознания. Тогда как раз и начали проводить подобные эксперименты — писать статьи исповедального толка, анализировать искусство с позиций собственной биографии. Это стало предметом обсуждения и до сих пор воспринимается с сомнением. Из этой серии, например, работы Гризельды Поллок. Однако сейчас — последние 5—10 лет — исповедальное письмо действительно в моде, и это здорово, что можно принять свою эмоциональную реакцию. Ты можешь сказать: «Я таков». Можешь быть честным по отношению к своим чувствам, признать, что испытываешь определённые физиологические и эмоциональные реакции на произведения искусства. Однако ты по‑прежнему не можешь использовать это в своей работе. И по‑моему, это как раз часть реакции на модернизм, длящейся с 1970‑х.

Эта история вызывает больше всего трудностей, когда я читаю лекции на эту тему. У историков искусства есть убеждённость, не подвергаемая никакой критике, что чем больше изучаешь исторический контекст произведения, тем глубже его понимаешь и принимаешь — и рационально, и чувственно. Этот постулат вызывает у меня сомнения. Учёность вовсе не даёт полного спектра реакций.
Некоторые историки искусства интересуются тем, как в прошлом зрители воспринимали искусство предыдущих эпох. Для них восприятие Беллини через поэзию Китса может вызвать определённый интерес. Но давайте взглянем с другой стороны: немногие зрители по‑настоящему осознают историческую дистанцию между собой и временем создания работы, свою погружённость в другой культурный поток. Множество людей приходит к живописи не через историю искусства, а каким‑то своим, очень личным путём. Меня к ней привела романтическая поэзия XIX века, как, впрочем, и многих. И это не значит, что поэзия Китса или труды Новалиса помогли мне понять Беллини. Они помогли мне заинтересоваться его живописью, полюбить её. У меня не было возможности посмотреть на Беллини другими глазами. Для меня романтики стали дверью в художественный мир. У других людей свои двери, и для кого‑то путь лежит через систематическое изучение искусства XV века — почему нет?

Но дальше встаёт вопрос, что ты станешь делать со своей дверью, будучи историком искусства? Ты можешь признать, что мир твоего воображения расцвёл под влиянием Шелли и Шеллинга, но как приличный учёный купировать это понимание, отрицать его и смотреть на Ренессанс якобы незамутнённым взглядом. Однако я предлагаю совсем другое. Путь, что привёл меня в мир ренессансной живописи, помогает мне открыть двери воображению как можно шире, увидеть больше. И уже с этим расширенным, обострённым восприятием вернуться к трудам по истории искусства.
Это зависит от того, о какой истории искусства вы говорите. Если речь идёт о старшем поколении искусствоведов, им это вообще не поможет. А если о сегодняшней истории искусства, открытой экспериментам, то да, в таком подходе кроется очевидная польза. Если историк сможет осознать свою позицию по отношению к произведению, вычленить, что именно в его исследовании определяется личным отношением, артикулировать и проанализировать собственный бэкграунд, это поможет совершенно иначе увидеть предмет, а не прятаться за собственной мнимой объективностью.
Мы никогда не поймём, что творилось в головах у современников Караваджо. Надо признаться, что мы не представляем, что происходит на картинах, а видим там только самих себя
Насколько мне известно, впервые это было сделано в книге Мик Бал «Цитируя Караваджо». Это отнюдь не моя любимая книга — я вижу в ней множество недостатков, но в ней была предпринята очень важная попытка утвердить новые основания для изучения прошлого. Автор утверждал: нам всем нужно со всей серьёзностью осознать, что мы никогда не сможем понять, что творилось в головах у современников Караваджо в конце XVI века. Надо признаться самим себе, что мы не представляем, что происходит на картинах, а видим там только самих себя. И это уже совсем другой этап истории искусства.

Речь совершенно не идёт о том, что раз я пришёл к Беллини через немецких романтиков, мне следует не читать итальянцев XV века, а погрузиться в тексты обожаемого мной Новалиса. Наоборот, речь идёт о более ответственном отношении к предмету изучения. Когда смотришь на Беллини, неплохо бы отдавать себе отчёт, каков настоящий источник тех представлений об этой работе, которые я считаю целиком и полностью верными.
Разумеется, это гигантское поле для исследований в рамках визуальной культуры. По идее, им должна заниматься дисциплина, исходящая из предпосылки, что все люди создают искусство. Огромное количество непрофессионалов создают картинки, снимают клипы, пишут музыку. Искусство музеев и галерей — это малюсенькая часть мощного потока творческой продукции. В контексте нашей беседы мне бы хотелось сказать, что нынешнее искусствоведение оставляет за бортом огромное количество художественных практик. Были исследователи, которые выходили за рамки, — Вальтер Беньямин, Мишель Фуко, я мог бы назвать ещё полдюжины имён, и почти все эти авторы уже умерли. Но это та же проблема: в поле внимания искусствоведов только узенькое пространство среди огромного потока. Один из немногих теоретиков, кто изучает этот поток, — Лев Манович. У него есть алгоритм, в соответствии с которым он анализирует сотни тысяч изображений — фотографии из инстаграма, селфи, непрофессиональное искусство — по тэгам, цветовым сочетаниям и так далее. Это худший из вариантов формализма — статистический. И тем не менее он один из немногих, кто вообще это всё рассматривает. При этом большинство исследователей визуальной культуры любят высокое искусство куда больше, чем следовало бы. По идее, их профессия не предполагает такого количества времени, проведённого на вернисажах. Им скорее следовало бы сидеть в интернете, просматривать рекламу и погружаться в поп-культуру.

Полагаю, что должен сказать «да». Однако я не думал о том, чтобы что‑то разрушать или с чем‑то бороться. Мне представляется, что идея академического, университетского знания так же сильна, как мощное течение посреди океана. Подчиняться ему очень легко, сопротивляться — невероятно сложно. Если вашу лодку уносит сильный поток, кажется очень естественным отдаться ему, но тогда вы поплывёте вопреки своей воле, своему желанию, вопреки своей цели, в конце концов. Сотрудникам университетов чрезвычайно сложно сопротивляться этому потоку, искать свой собственный голос, отстаивать то, что они сами хотят сказать и что реально думают, не оглядываясь постоянно на коллег, рецензентов и индекс цитирования. Моя цель — обратить внимание этих людей на те части художественной продукции, о которых им неудобно и неловко высказываться. Очень мало исследователей говорят своим собственным голосом. Поэтому мне так нравятся книги об искусстве, написанные людьми не из искусствоведческой среды. Они не боятся показаться нелепыми и не знают наших условностей. В общем, неправда, что я всё время целюсь в историю искусства, я целюсь в людей, которые боятся высказывать вслух то, что могли бы сказать.
Почему арт-критика стала описательной и нейтральной по отношению к своему предмету? Почему критик перестал высказывать суждение, собственно критиковать? Мой ответ на этот вопрос таков: никто больше не хочет быть модернистом. Люди боятся суждений, потому что модернизм эти суждения высказывал
Здесь бы я вспомнил предисловие Панофского к его последней книге, о Тициане. Он писал, что все иллюстрации там чёрно-белые не вопреки тому, что Тициан был величайшим колористом в истории, но как раз потому, что он им был. Другими словами, Панофский сказал: цвет — самое важное в творчестве Тициана, но я абсолютно неспособен что‑либо сказать об этом словами, поэтому я поступлю как все прочие историки, перескажу легенды, приведу цитаты и исторические сведения… Но мы‑то все знаем, что причина, по которой мы любим Тициана, — это цвет.

Если историки искусства говорят чужим голосом, то что говорить про арт-критиков?
У меня есть книга «Что произошло с арт-критикой?» — она анализирует именно эту проблему: почему арт-критика стала описательной и нейтральной по отношению к своему предмету? Почему критик перестал высказывать суждение, собственно критиковать? Мой ответ на этот вопрос таков: никто больше не хочет быть модернистом. Люди боятся суждений, потому что модернизм эти суждения высказывал. Не то чтобы критики об этом всё время думали, — а ведь нейтральными стали арт-журналисты по всему миру, — но 40—50 лет постструктурализма, тщательно изученные ими в университетах, весьма непросто в себе преодолеть. И эта книга как раз была принята с интересом, потому что кризис художественной критики вполне осознан профессиональным сообществом, по всему миру постоянно проходят семинары, коллоквиумы и конференции на эту тему. И редакторы постоянно мучаются вопросом: что мы можем сделать, чтобы преодолеть проблему? Однако если мы её преодолеем и заставим людей судить, это будет шаг назад, к предыдущей эпохе. Единственный вариант, который мне видится, это привлекать к написанию рецензий специалистов из других сфер — поэтов, социологов, то есть критиков совершенно иного типа.
Со всем уважением к Розалинде Краусс, я считаю её идею, что суждение наивно, абсолютно провальной. Она призывала никого не судить, но сама всю свою жизнь только этим и занималась
Не будет ли этот тип критики слишком поверхностным и наивным?
Ну и пусть наивным. Это тоже страх, происходящий из академической среды. Все сейчас боятся показаться простоватыми и наивными. И я знаю, кто в этом виноват. Самый главный виновник — Розалинда Краусс. В середине 1970‑х она написала несколько эссе, где сообщила, что художественная критика должна прекратить своё существование, поскольку ассоциируется с Климентом Гринбергом и другими авторами предыдущей эпохи, и предложила так называемый метод. Заключается он вот в чём. Вы арт-критик, видите произведение и думаете: «Сейчас я о нём напишу, поскольку это отличная работа». И тут, говорит Краусс, вам следует остановиться и задуматься: как я, родившийся в определённой стране, в семье определённого социального уровня и получивший некоторое образование, пришёл к идее, что это хорошая работа? Каков мой бэкграунд, что я оцениваю это произведение или этого художника так, как оцениваю? И именно эти условия, которые привели вас к суждению, вам, по мнению Краусс, и следует описывать в своей статье. Но никогда не судить!
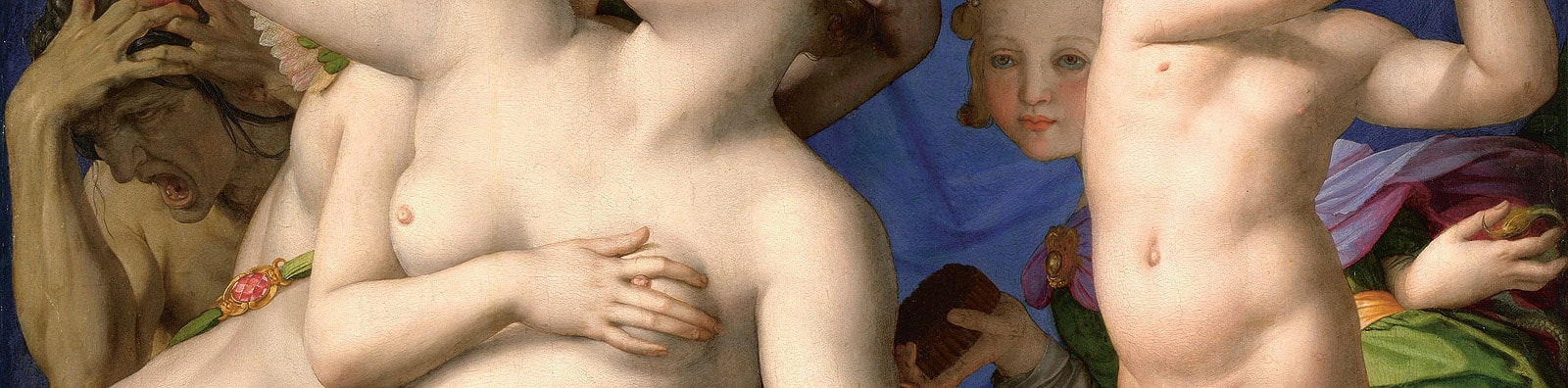
Со всем уважением к Розалинде, я считаю эту её идею, что суждение наивно, абсолютно провальной. Логически из её рассуждения совершенно не вытекает мысль, что суждение наивно. Она призывала никого не судить, но сама всю свою жизнь только этим и занималась. Важно отдавать себе отчёт, почему ты судишь, и почему ты судишь именно так. Но суждение само по себе — это больший вызов, более трудная задача, и проследить способ формирования собственного мнения куда сложнее, чем выразить нейтральную позицию.